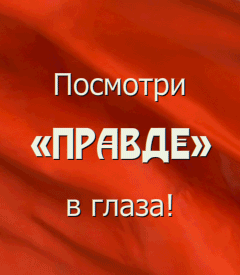Аграрный вопрос В.И.Староверов, И.В.Староверова Исторические особенности решения аграрно-крестьянского вопроса и выживания деревни в России при капитализме и социализме
СТАРОВЕРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник ИСПИ ФНИИСЦ РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Президиума ЦС РУСО (общественной организации «Российские учёные социалистической ориентации»); СТАРОВЕРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА — ведущий научный сотрудник независимого Института аграрной социологии, доцент кафедры общественных и гуманитарных наук Госуниверситета землеустройства, кандидат социологических наук.
Уже в средневековую эпоху существования России, то есть в пору, когда её деревня и город обретали системные качества специфических у каждого этого феномена институциональных характеристик цивилизационных форм бытия сельского и городского населения, аграрный вопрос придавал экзистенциональный смысл функционированию
её общества, страны, державной самости. Это наше утверждение обусловлено сутью самих, характеризующих проблемность обозначенной заголовком темы исходных понятий — «аграрного вопроса», «деревни» и «города», «общества».
В марксистском понимании, аграрный вопрос — это, в широком смысле, вопрос об отношениях между классами по поводу земельной собственности и связанной с ней классовой борьбы. Он актуализировался в условиях разложения феодальных обществ и решение его стало необходимым условием устранения докапиталистических производственных отношений. В связи с чем поиск путей и методов решения этого вопроса стал в очередь первоочередных задач буржуазно-демократической революции.
Деревня же в координатах культурологического подхода к анализу истории есть институт цивилизационной формы длительной и устойчивой жизнедеятельности народов. А формационно — это социально-территориальная подсистема общества, органически связанная с другой, дихотомичной ей и одновременно отличной от неё конгломеративно в пространственном, социетальном в организационном выражении, подсистемой, существующей под именем «город». Социум же или общество в широком смысле — совокупность исторически сложившихся цивилизационных форм совместной жизнедеятельности жителей города и деревни, в узком же смысле исторически конкретный тип социальных отношений, свойственных этой совокупности слоёв, то есть больших или малых групп этих жителей по поводу степени доступности для них средств производства и потребления благ существования. По характеру таких отношений между большими группами определяется тип общества. При больших или меньших, но существенных по характеру, они являются классовыми, называясь по имени господствующего класса. При наличии только несущественных классовых различий общество аттестуется социалистическим, и типологизируются такие общества
по степени проявления в них последних. Более-менее полным отсутствием социальных различий будет характеризоваться коммунистическое общество. Но такового эра цивилизованного человечества ещё
не знала, Деяния в Библии содержат описание коммунистического бытия в первобытную эпоху существования людей.
Неравенство в доступности к использованию земли из-за частной собственности на неё сложилось с появлением классовых обществ — рабовладельческих и феодальных, и поскольку оно изначально порождало протест масс людей, лишённых земли, необходимой им для производства средств существования, то было юридически закреплено правящими силами римским правом частной собственности, которое поставило препоны любой, кроме купли продажи, деятельности, направленной на преодоление данного неравенства в землепользовании. Так возник аграрный вопрос, изначально отягощённый потенциалом групповой борьбы за землевладение.
Оказавшись неспособными полностью решить задачу социально сбалансированной оптимизации отношений классов по поводу земельной собственности, а это можно было сделать только путём конфискации земли у частных собственников и превращения её в общенародное владение, буржуа отяготили этот вопрос экзистенциональными проблемами деревни как дисперсной социально-территориальной формы бытия, живущего преимущественно аграрным производством населения, которое до Новейшего времени было самой массовой частью человечества, и тем превратила его в аграрно-крестьянский вопрос. Причём ключевым звеном решения этого исторически усложнившегося вопроса стал феномен субъектности деревни, как социально-цивилизационного института и социально-территориальной подсистемы исторического функционирования любого общества. И хотя при капитализме, в силу преобладания сельского населения, деревня стала,
по К.Марксу, живой силой формирования наций и прогрессивного развития дихотомичной ей подсистемы — города, — капитализм, осознавая свою неспособность решить аграрно-крестьянский вопрос путём конфискации и обобществления земли и страшась протестного потенциала её жителей, стал последовательно уничтожать деревню.
В чём и преуспел, ибо в большинстве развитых капиталистических стран Запада института деревни, как социально-цивилизационного обладателя его собственной субъектности, уже нет. Есть сведённая численно до минимума, лишённая социальной значимости маргинальная общность жителей территорий с дисперсно (рассеяно) организованным их бытием, чьи коренные интересы выражают проживающие в городах владельцы финансового капитала, в руках которых находятся все ключевые звенья производственных и непроизводственных, социально-экономических и духовно-культурных отношений обитателей сельской социально-цивилизационной территории.
Россия на фоне этих процессов в европейском пространстве человеческой ойкумены не только в эпоху позднефеодального средневековья, но и в Новое время, и даже в некоторые специфические периоды Новейших веков представляла собой одно из немногих среди прочих стран исключений. Затянувшееся, в силу господства в ней консервативной ментальности её правителей, существование отягощённого долгое время наследием рабовладения крепостнического феодализма, а также сохранение среди россиян бытовавшей у их предков в первобытнообщинную, патриархальную эпоху земельной коммунитарности в виде сельской общины, не преградило, однако значительно затруднило, проникновение в страну буржуазных порядков, в результате чего в ней уже с допетровских времен в гибридных формах сосуществовали одновременно элементы как рабовладельческого и феодального аграрного, так и буржуазного аграрно-крестьянского вопроса. Что, однако, и в ней не сняло, являвшуюся органической частью решения аграрного и аграрно-крестьянского вопроса, проблему субъектности проживающего в деревне населения, поскольку от решения этой проблемы зависело включение России в процессы всемирного научно-технического и общественного прогресса. От чего, в свою очередь, зависело выживание её среди капитализирующихся, а потому обретающих всё большую агрессивность соседних стран. Ведь институциональная (социально-цивилизационная) субъектность социума или цивилизационного института проявляется той или иной, обладающей потенциалом своего исторического развития, большей или меньшей социально-территориальной, этнической или классовой общностью как показатель их жизнеспособности. И характеризуется эта субъектность способностью социума, его подсистем, институтов политическими, экономическими и прочими общественно значимыми формализованными способами выражать и отстаивать свои насущные интересы, волю к жизни. Утрачивая свою субъектность, социально-классовая общность, равно как и цивилизационный институт, обрекает себя на сход с исторической арены человеческого бытия. А применительно
к деревне не только себя, но и органическую, взаимосвязанную с ним дихотомичную подсистему общества, то есть город, следовательно,
в конечном счёте, и сам интегральный социум как оплот державного существования страны.
Об этом экзистенциональном обстоятельстве самодержавные правители России начали инстинктивно догадываться уже весьма давно. Так, фаворит правительницы Софьи князь М.А.Голицын предлагал
ей для смягчения обострявшегося аграрного вопроса, а потому чреватого повторением бунтов «сельской черни» типа памятного им восстания под водительством И.И.Болотникова, осуществить первые антикрепостнические реформы. Но в сумятице той эпохи не преуспел. Между тем, аграрный вопрос, подпитываясь мало разумными, укреплявшими дворянское сословие реформами, в частности отменой последних вольностей «сельской черни» в виде «Юрьева дня», или указа Петра III об освобождения дворянских детей от обязательности до того службы государству, наливался социальным протестом простых сельских масс, чьи интересы игнорировались, и мощно полыхнул бунтами, сначала под водительством С.Т.Разина, а потом Е.И.Пугачева, поставившими романовскую империю на грань гибели.
Все аграрные реформы при царизме проходили в русле поисков достаточно надёжной массы активных сословно-классовых носителей субъектности, то есть жизненных интересов, деревни. Они имели разнообразные идеологические и теоретические обоснования, и все они были продиктованы единым для реформаторов желанием обеспечить тем или иным господствовавшим «элитам» возможность наиболее эффективной и главное безопасной эксплуатации масс трудящихся деревни. А потому оказывались бесплодными.
Единственной теорией, равно единственной руководившейся ею политической силой оказались марксистско-ленинская теория решения аграрного вопроса и большевики, ведомые И.В.Сталиным — теоретиком и практиком подлинно социалистического строительства, решившие историческую проблемность аграрно-крестьянского вопроса, использовав для этого путь всемерного развития субъектности деревни как живой силы завершения формирования наций, составивших советский народ и обеспечивших эффективное начало превращения этого народа в новую историческую советскую общность как интегральную сверхнацию, в другой интерпретации суперэтнос.
Как Россия шла к этому и чем характеризовались исторические этапы на этом пути, мы и хотим рассказать в данной состоящей из двух частей статье. Хотя бы потому, что все эти этапы в современном российском буржуазном обществоведении крайне мифологизированы, а ленинский и особенно сталинский этапы к тому же ещё и до крайности искажены многочисленными, чернящими их сущность, инвективами и стигмами.
Статья базируется, естественно, на марксистской методологии анализа общественно-формационных и цивилизационных процессов и использовании технологий исследовательских приёмов case study* в целях обоснования нометического, то есть формирующего законы бытия фундаментальных общественно-цивилизационных институтов, притом на основе индуктивного метода осмысления их через артефакты
не только публикационного наследия обществоведов, особенно К.Маркса, В.И.Ленина и И.В.Сталина, но и почти личностного характера.
_____
* Метод конкретных ситуаций (англ. Case method, кейс-метод, метод кейсов, метод ситуационного анализа) — техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. — Ред.
В ключевой можно сказать момент эпохи существования в России института деревни, это оказалось весьма кстати. Наиболее обстоятельно речь во второй части статьи пойдёт о деревне сталинской эпохи советской истории, о которой, в отличие от немногих оставшихся долгожителей вроде одного из соавторов её, мало кто знает из собственного жизненного опыта, ибо та эпоха на протяжении почти семи десятилетий была, пожалуй, как никакое иное историческое время, оболгана, и только в нынешние дни, кажется, над ней забрезжил свет возможного очищения от вышеназванных наветов. Зыбкую надежду на это даёт нам выступление президента В.В.Путина на Валдайском форуме осенью 2021 года об исчерпании не только в мире, но и в России потенциала капитализма, который все эти десятилетия и был в нашей стране сначала подспудной, а последние тридцать лет и в карикатурно дикой социальной ипостаси своей, питательной почвой этого бесовского искажения значимости той трудной для нашего существования, но и самой плодотворной для деревни и всей советской державы эпохи. Во всяком случае именно так мы восприняли факты публикации примечательной беседы главного редактора «Аргументов недели» А.И.Угланова с профессором-экономистом депутатом Госдумы РФ М.Г.Делягиным (см.: Делягин М. О скором возврате «сталинской экономики» // Аргументы недели, 3—9 ноября 2021 г. С. 1, 8—9) и ряда других медийных источников последнего времени, в которых обнаружили пробуждение у современных обществоведов и политиков уважительного отношения к наследию той славной эпохи.
Часть 1. Неудачные попытки решения
аграрно-крестьянского вопроса в досоветской России
Как можно понять из вышесказанного, идейно-политический характер и способность к выживанию попыток теоретически обосновать и практически осуществить решение аграрно-крестьянского вопроса полностью зависит от того, во благо какого класса их инициаторы намереваются обеспечивать формирование и проявления субъектности деревни. Между тем именно установкой их на благо эксплуататоров сельских трудящихся масс характеризуются все три наиболее значимые такого рода попытки, предпринятые в досоветские времена, а именно: так называемые «великие реформы» в духе якобы антикрепостнического Манифеста Александра II середины XIX века; Столыпинские реформы и потуги, основанные на эсеровских концепциях или аграрные реформы Временного правительства начала XX столетия.
Провальные результаты попыток в России в досоветские времена решить капиталистическими методами аграрно-крестьянский вопрос нашли достаточно полное отражение в дореволюционной литературе. Ярким пятном легла на их характеристику монография земского врача, затем депутата 2—4 царской Госдумы кадета А.И.Шингарёва «Умирающая деревня» (СПб, 1906), из которой явствовало что для капитализма решение этого вопроса вообще смерти подобно. Первая часть нашей статьи, наряду с прочими её задачами, невольно проясняет, почему лицемерием, на наш взгляд, оттеняется печаль президента, выраженная
в его огорчении констатированным им несколько лет назад «запустением» и «замиранием» современной российской деревни. Ведь это естественный результат прилежно пестуемого им третье десятилетие, укрепляемого им в нашей стране капитализма, да не классически рядового, а неолиберального, олигархически-коррумпативного. Именно
из такого понимания сути происходящего и родилась сравнительно недавно крайне пессимистическая статья «Эпитафия российской деревне» одного из соавторов данной публикации. (См.: Политическое просвещение. 2020. № 4).
Дворянско-пробуржуазный характер
социально-исторических истоков порождения и
реформаторского потенциала Манифеста
императора Александра II об отмене в России
крепостного права
Живущему в текущее время поколению должно быть ещё памятно,
с каким ажиотажем в феврале-марте 2011 года российские и некоторые мировые СМИ, обществоведы и политики отметили 150-летие
со дня Манифеста императора Александра II об отмене в России крепостного права. Обозревая его в связи с прочими царскими реформами решения аграрно-крестьянского вопроса, творцы оного ажиотажа поименовали тот период эпохой «великих реформ». В Санкт-Петербурге, в Мариинском дворце, с участием бывшего ещё на тот момент российским президентом Д.А.Медведева, а также большого сонма зарубежных учёных и политиков, состоялась научно-практическая конференция «Великие реформы и модернизация России». В Москве, помимо Всероссийской научной конференции в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева (см.: Великая крестьянская реформа 1861 года и её влияние на развитие России. — М., РГАУ-МСХА, 2011) состоялись коллоквиумы и семинары преподавателей вузов и сотрудников ряда научных учреждений. Отметили это событие и в других университетских городах.
Юбилей Манифеста осветили многочисленные публикации, выступления и интервью обществоведов и политиков. Один из авторов данной статьи в соавторстве с самарским политологом В.Т.Лазаревым, чтобы обозначить неоднозначность объективной реальности, вызвавшей
к жизни означенный документ, опубликовали специальную монографию (Лазарев В.Т., Староверов В.И. Аграрная политика России: социолого-политологический анализ. К 150-летию отмены крепостного права. — Москва-Самара: ИСПИ РАН-ИАС-НОАНО ВПО СИБиУ, 2011) под шапкой «К 150-летию отмены крепостного права». Своё неравнодушие к упомянутому историческому событию прочие участники юбилейных торжеств объясняли различными мотивами и причинами.
Упомянутый нами политолог и экономист Михаил Делягин полагал, что половинчатость порождённых означенным Манифестом реформ породила в России большие проблемы, вызвавшие Февральскую 1917-го и Октябрьскую того же года революции. (См.: Делягин М. Александр II крестьянам дал вольную, дворянству — деньги, а в результате появилась враждебная государству интеллигенция // Комсомольская правда,
3 марта 2011 г. С. 10—11). Разделяя в основном высказанные им положения, соавтор данной статьи свой интерес к Манифесту и реализовавшим его положения реформам в тот момент объяснял (см.: В.И.Староверов. Социально-политическая природа манифеста 1861 года и характер связи его с российской современностью // Указ. сборник РГАУ-МСХА. С. 158—167), прежде всего, тем, что порождённые реформаторскими актами общественные тенденции ознаменовали радикальный социально-политический отход дореволюционной самодержавной России от прежнего курса защиты цивилизационной особости её традиционной истории. Они обозначили начало прерванным было Октябрём 1917 года, но вновь осуществляемым ныне попыткам влиять на судьбу нашей страны в русле капиталистического и цивилизационного развития Западной Европы и Северной Америки. Сегодня этот наш интерес подогревается также возможностью через анализ прошлого понять механизмы и особенности не только зарождения, но и направленности современного развития названных тенденций агрессивной вестернизации российского бытия, в том числе сельского, и в аспекте решения аграрно-крестьянского вопроса и обеспечения субъектности отечественной деревни.
Иными мотивами объяснялся, насколько можно судить по их тогдашним публикациям, интерес к Манифесту и «эпохе великих реформ» ряда других участников юбилейных торжеств. «Независимый экономист» Николай Вардуль обосновал свой интерес к нему тем, что этот Манифест открыл «одну из самых светлых страниц российской истории». Славя «царя-освободителя» Александра II, олицетворявшего, по словам Вардуля, «исторический прогресс», он противопоставлял носителям «исторического регресса», коими им маркировались защитники российской державной самости, они же, по его словам, злостные «диктаторы» Иван Грозный, Пётр I, и особенно В.И.Ленин и И.В.Сталин. (Вардуль Н. Александр II или Петр I? // Московский комсомолец, 19 февраля 2011 г.).
Вообще, юбилейные выступления этих «других» аллилуйщиков Манифеста нередко кропились ядом антикоммунизма и антисоветизма. Особенно выступления адептов буржуазности из числа историков и политиков. Так, заместитель директора Института истории РАН В.М.Лавров утверждал: «„Старый экономист” Ленин скрывал от мужиков, что почти вся земля им (кем? или кому?) передана за десятилетия рыночно-буржуазной модернизации России». Косноязычие Лаврова было, можно полагать, нарочитым. Как и произвольный характер его утверждения, будто «преодолев первую русскую революцию,.. страна вышла на первое место в мире» (?!), или иллюстрации им «сталинского крепостничества» тем, что в ходе коллективизации советские крестьяне были «лишены паспортов», будто они имели их в массовом порядке ранее, и подобные перлы манипулятивного лавровского историзма. (Зачем император Александр II подарил народу свободу? Что значил для России царский манифест 1861 года? Интервью Л.Кафтан // Комсомольская правда, 3—11 марта 2011 г.).
Титулованный директор академического ИНИОН (сгоревшего позднее при его попустительстве Института научной информации по общественным наукам) Ю.С.Пивоваров в своей лекции на телеканале «Культура», претенциозно названной «150 лет русской свободы», бездоказательно, если судить по её опубликованному «Комсомольской правдой» варианту, славословил царя-освободителя и его «эпоху великих реформ». Создавалось впечатление, что академик всерьёз полагал, будто аудитория из почтительности к его титулам доверчиво примет за весомые «доказательства» его ссылки на лишённые им исторической значимости аргументы. В доказательство прогрессивной позиции Александра II и современного ему руководства страны, он ссылался на фразу Пушкина: «Правительство у нас — единственный европеец». (Пивоваров Ю.С. в передаче Л.Кафтан. Крестьян освободили через 99 лет после дворян // Комсомольская правда, 23 марта 2011 г.). Так и хотелось спросить его: «где Рим, а где Крым?». Историческая символика понятий европейца пушкинского времени и времени александровского царствования — две принципиально разные социальные величины.
У Пушкина — европеец по его ментальности — просветитель, в эпоху Александра II — европеец в общественном мнении — эксплуататор, обуреваемый ненасытной страстью криминального обретения первоначального капитала.
Ещё пример: солидаризируясь с названным им «великим» буржуазным мыслителем П.Б.Струве, академик изрекал: «Победа Ленина и большевиков — это крест на русской свободе». А поскольку эпоху этой пресловутой свободы он ранее исчислил в полтора века, то первое, что хотелось спросить у него, откуда же взялись 150 лет русской свободы, если не считать 70 лет советской «несвободы»? Возникало подозрение, что с чувством количественной меры у него не совсем в порядке. А согласно французскому классику психологии Ж.Пиаже, это — первый признак маразматического расстройства ментальности человека. Не потому ли такие примеры-нелепицы, характеризующие насаждаемую им и его соратниками манипулятивную субъективистскую «историческую память», громоздятся на всём протяжении этого выступления тогдашнего российского титулованного историка.
Некоторые историки в своих выступлениях на конференции в РГАУ-МСХА снисходительно упрекали советский агитпроп в том, что, в отличие от юбилейного извержения елея в их буржуазную эпоху, 100-летие реформы было скромно отмечено лишь несколькими публикациями. Отсутствие помпы они наивно объясняли недооценкой коммунистами крестьянства. О том, что это выдумка, можно было легко понять даже по оценкам оного Манифеста в советских школьных учебниках и по некритично заимствованной из дореволюционной либерально-демократической публицистики аттестации его тем же советским агитпропом как «великой крестьянской реформы». Впрочем, и такая расхожая некогда у советских российских обществоведов аттестация её на сей раз употреблялась редко. Этому способствовало, очевидно, то обстоятельство, что, приняв непосредственное участие в петербургской конференции, тогдашний президент Медведев в своём выступлении политически «отконвертировал» эти и подобные оценки, заявив, что «эпоха великих реформ началась с отмены крепостного права», «открыв России путь к прогрессу и развитию», ибо Александр II и его единомышленники «сделали шаг в будущее». Экс-президент недвусмысленно дал понять, что дела полуторавековой давности — не просто история России. Они напрямую завязаны на проблемы её капиталистической современности. Выразив надежду, что «Россия XXI века будет свидетельством безусловной правоты реформаторов века XIX-го, — он заявил. — По сути, мы продолжаем тот курс, который был проложен полтора века назад». (Цит. по репортажу Лемуткиной М. «Медведевские параллели» // Московский комсомолец,
4 марта 2011 г.).
Заявление Медведева снимало флёр мифологического романтизма, которым долгое время прикрывалась западниками сущность Манифеста 1861 года, что позволяло увидеть в ней одно из ключевых звеньев серии российских либеральных реформ, то есть путём почти полного уничтожения субъектности деревни. Тем не менее, алгоритмы крестьянского «освобождения» и по сегодня мифологизируются, как никогда, пожалуй, в прошлом.
В той юбилейной суете ещё раз проявилась живучесть во мнении российских либералов мифа, будто отмена крепостного права свершилась чуть ли не моментально, «по манию царя» Александра II. На самом деле это исторический феномен длительного действия. Уже
в 1803 году, стремясь смягчить нараставший накал протестного потенциала аграрно-крестьянского вопроса, Александр I Указом о вольных хлебопашцах рекомендовал крепостникам отпускать крестьян с землёй. Но за полтора десятилетия отпущено было всего 0,2% крепостных. Реальная отмена крепостного права по воле Александра I началась с Прибалтики в 1816—1819 годах, то активизируясь, то затухая.
К 1861 году крепостными в России оставались по разным источникам 25—40% крестьян. А затем, и после Манифеста «освобождались» они 31 год: крепостничество в Грузии было отменено в 1871, а в Калмыкии только в 1892 году.
Другой миф связан с представлениями о преемственности либеральных реформ Александра II, в том числе его Манифеста, с антикрепостнической политикой прочих Романовых. В действительности же между характером последней и либеральными александровскими реформами были принципиальные различия.
Давление на российскую экономику необходимости антикрепостнических преобразований ощущается, как уже отмечалось, ещё в допетровские времена. Фаворит Софьи европейский поклонник князь Голицын соблазнял её целесообразностью освобождения крестьян
с землёй, мотивируя это увеличением вследствие такого освобождения «с лишком половиною доход царский». Начиная с петровских реформ, политэкономическое давление в пользу необходимости решения аграрно-крестьянского вопроса нарастало. Сдерживать его становилось год от года всё труднее. Уже в 1736 году дворянам-фабрикантам была разрешена покупка крепостных для работы не на земле, а в промышленности.
Но подневольный труд крепостных на «посессионных фабриках» оказался малопроизводительным. Всё сильнее назревала необходимость отмены крепостного права, оказавшегося главным препятствием первоначальному накоплению промышленного капитала как экономическому основанию буржуазного строя. Тем не менее Романовы, видя воочию непривлекательные для самодержавия политические, а для масс социальные плоды первоначального накопления капитала на Западе, всемерно сдерживали это давление. Даже заигрывавшая с Дидро и Вольтером Екатерина II не решалась ослабить сопротивление ему, а наоборот, усиливала противодействие. Её законоположения об усилении крепостной зависимости крестьян от помещиков имели объективно антикапиталистическую направленность. То же можно сказать о манифесте вольности дворянству её предшественника — Петра III.
Александр I Указом о вольных хлебопашцах 1803 года распространил право покупки земли на купцов, мещан, подённых крестьян и освобождённых от крепостной неволи. Но подготовленные по его поручению проекты отмены крепостного права по всей России не обеспечивали простор её капиталистическому развитию, поскольку имели целью не обидеть крепостников. Они обещали крестьянам выкуп личной свободы без земли (Н.С.Мордвинов), личное освобождение с минимальным наделом земли, выкуп её крестьянами (А.А.Аракчееев); освобождение с неограниченным наделом, но с выкупом его за свои средства в течение 60 лет (проекты М.М.Сперанского и Е.Ф.Канкрина).
Но даже в этом виде порождали недовольство основной массы дворянства. А по донесениям тайных агентов полиции, не устраивали они и потенциальных буржуа, не говоря уже о жаждавшем «земли и воли» крестьянстве. И потому были положены под сукно.
Неудачная попытка российских западников открыть дорогу буржуазно-демократическому решению аграрно-крестьянского вопроса вылилась в восстание декабристов 1825 года. Оно ещё более насторожило Николая I, усилившего в ответ на него самодержавный абсолютизм. Создав режим полицейско-крепостнического государства, опираясь
на поддержку крупных крепостников, он придушил все, в том числе буржуазно-демократические, свободолюбивые веяния. В аграрно-крестьянском вопросе особенно.
Тем не менее, нараставшее давление промышленного прогресса поколебало даже Николая I. В частности, в 1842 году он поручил графу П.Д.Киселеву осуществить подготовку к раскрепощению крестьянства. Такой проект был подготовлен. Однако разразившаяся в Европе буржуазная революция 1848 года напугала царя и побудила его отказаться
от намерения освободить крестьян, чтобы не спровоцировать революцию и в России.
К тому же Запад в эту пору ещё в большей степени, чем прежде, отвращал Россию следовать его примеру. В частности, тем, что его население жило хуже российского. Вот что писал в 1839 году англичанин-путешественник, отнюдь не благоволивший России: «В целом...
по крайней мере, что касается просто (!) пищи и жилья, русскому крестьянину не так плохо, как беднейшему среди нас. Он, может быть, груб и тёмен, подвергается дурному обращению со стороны вышестоящих, не сдержан в своих привычках и грязен телом, однако он никогда
не знает нищеты, в которой прозябает ирландский крестьянин. Быть может, его пища груба, но она изобильна. Быть может, хижина его бесхитростна, но она суха и тепла. Мы склонны воображать себе, что если уж наши крестьяне нищенствуют, то мы можем, по крайней мере, тешить себя уверенностью, что они живут во много большем довольстве, чем крестьяне в чужих землях. Но сие есть грубейшее заблуждение.
Не только в одной Ирландии, но и в тех частях Великобритании, которые, считается, избавлены от ирландской нищеты, мы были свидетелями убогости, по сравнению с которой условия русского мужика есть роскошь, живёт ли он средь городской скученности или в сквернейших деревушках захолустья. Есть области Шотландии, где народ ютится в домах, которые русский крестьянин сочтёт негодным для своей скотины». (Цит. по: Пайпс Р. Россия при старом режиме. — М., 1993. С. 10—11).
Свидетельство это было со стороны иностранцев не единственным. Что порождало естественные вопросы, стоит ли от плохого отечественного идти к худшему западному, и тем мирило с язвами крепостничества. Крымская война 1853—1856 годов обнажила технологическую отсталость России, обострила необходимость промышленной революции. Вместе с тем всем стало ясно, что она невозможна, пока не будут разбиты оковы крепостничества, то есть не решён в пользу трудовой деревни аграрно-крестьянский вопрос. Зондажи тайных агентов полиции, обследования, организуемые министерством внутренних дел, экспедиций по стране и правительственных комиссий, фиксировали нарастание всеобщего недовольства и даже революционной ситуации.
Со смертью Николая I, то ли отравившегося, то ли отравленного, появилась возможность снять препоны этому. Воспитанный идеологом западного просвещения Ф.С.Лагарпом в либеральном духе, Александр II начал отход от диктовавшейся цивилизационной спецификой российского общества традиционной для его предшественников политики.
Он попытался административными мерами перевести развитие России в русло буржуазной западноевропейской цивилизации.
Следующий миф вокруг деяний царя-освободителя составляют утверждения, будто его реформы облагодетельствовали крестьянство. На деле они облагодетельствовали класс крепостников, обложив крестьянство выкупными платежами и привязав их к земле на срок, пока эти платежи не будут выплачены, причём с лихвой. Крепостникам были выплачены «одолженные» государством крестьянам суммы в несколько раз превышавшие средства, которые потребовались бы им для выкупа
из крепостной кабалы в дореформенные годы. До выплаты казне «одолженные» на выкуп средства крестьянин не мог без согласия общины получить паспорт и переселиться. Если же паспорт выдавался,
то община была обязана выплачивать с большими процентами помещикам деньги за перешедшие от бывшего односельчанина в её собственность земли. Естественно, община этому противилась, ей невыгодно было отпускать сообщинника. Таким образом помещикам удалось через правительство удержать систему «кабального социализма»
в пределах бывших своих владений, сохранить значительные элементы барщины, поскольку при недостатке денег община вынуждена была компенсировать задолженность «отработками». Крестьяне были превращены в источник дешёвой силы для «вольной» работы на помещика. К тому же последний освобождался от ответственности за их благосостояние, которую он нёс ранее согласно крепостному праву.
Проиграла и многочисленная разночинная российская интеллигенция. Основу её составлял многомиллионный отряд разорившихся дворян, однодворцев. Не имея крепостных, они от «освобождения» крестьян ничего не получили. Сомнительной оказалась выгода и «третьего сословия». Основным источником рабочей силы для них стала освобождённая от крепости без земли, развращённая бездельем и холуйской службой дворня. А это были не те трудовые ресурсы, которых требовал процесс промышленной модернизации страны. Как уже было отмечено ранее советскими аналитиками, в результате реформы 1861 года «главный вопрос — о выборе между общинным и индивидуальным крестьянским землевладением — не был решен окончательно, он был лишь отложен на будущее. Пример Европы по-прежнему склонял верховные симпатии к принципу единоличного владения, противоречившему народному правосознанию. И это постоянное раздвоение власть предержащей верхушки между сиюминутной выгодой, насущной политической надобностью и желанием следовать примеру передовой Европы стало своего рода заклятьем русского „крестьянского вопроса”».
Ещё один миф составляют мнения российских либералов, будто реформы Александра II дали толчок быстрому экономическому развитию России, и она стала возрождаться в качестве ведущей державы мира. Некоторый рост темпов экономического развития на первых порах действительно обозначился. Усиление материальной заинтересованности вчерашних крепостных в форме «работы на себя», осознанная частью бывших крепостников необходимость «зарабатывать» впредь своё благополучие более умелым хозяйствованием на земле привели
к хорошим практическим результатам. Если среднегодовое производство зерна в России в дореформенное десятилетие составило 141 млн. четвертей, то в первое пореформенное десятилетие — 216 млн.,
то есть прирост составил 46%.
Но вскоре эти резервы истощились. Лет через 20 после начатых Манифестом реформ известный обществовед А.Н.Энгельгардт задавался в книге «Из деревни» резонным вопросом: «Почему же русскому мужику должно оставаться только необходимое, чтобы кое-как упасти душу, почему же и ему, как американцу, не есть хоть в праздники ветчину, баранину, яблочные пироги? Нет, оказывается, что русскому мужику достаточно и чёрного ржаного хлеба, да ещё с сивцом, звонцом, костерем и всякой дрянью…». И однозначно утверждал, что русский мужик лишался самого насущного хлеба потому, что царская Россия вывозила его за счёт экономии на голодном брюхе крестьянина, а не за счёт крупного товарного производства.
Чем активнее проводились в царской России либеральные переделы, тем сильнее бедствовала страна. В своём докладе V съезду уполномоченных объединённых дворянских обществ в 1909 году В.И.Гурко говорил: «Вывоз хлеба происходит не от достатка, а от нужды, происходит
за счёт питания населения. Наш народ, как известно, вынужденный вегетарианец, то есть мяса почти никогда не видит». Но и в не аграрной сфере «прогресс» был сомнительным. Во-первых, выплаты государства крепостникам, а они составляли 80% выкупной цены, которые крестьяне должны были постепенно возвращать казне с немалыми процентами, превышали возможности государства, поэтому оно взяло ссуды в зарубежных банках. Чтобы расплатиться с этими банками, царское правительство продало Аляску, да к тому же вынуждено было предоставить небывалые для отношений равных стран преференции в России деятельности западноевропейского капитала. Приток последнего особенно усилился в период управления министров-монетаристов Н.Х.Бунге, М.Х.Рейтерна, И.А.Вышнеградского, С.Ю.Витте. В итоге, тот же Гурко
в упомянутом докладе говорил: «Все без исключения страны опередили нас в несколько десятков раз. Годовая производительность одного жителя составляла в России в 1904 г. всего 58 руб., в то время как в Соединённых Штатах она достигла за пятнадцать лет до того 346 рублей». Стремившаяся стать великой державой Россия начала стремительно превращаться в полуколонию, основная часть промышленности её стала принадлежать англичанам, немцам, французам, бельгийцам. От колониальной участи страну спасла Октябрьская социалистическая революция.
В современное российское обществоведение упорно внедряется представление, будто либеральным реформам Александра II не было альтернатив. Его необходимо рассмотреть в связи с ещё одним мифом, будто и у западоидной направленности этих и последующих реформ того же типа не было иных вариантов, ибо потребности в промышленной модернизации России были не только срочными, но и императивными. С лёгкой подачи кинорежиссера С.С.Говорухина (к/ф «Россия, которую мы потеряли») современные буржуазные российские обществоведы любят, ссылаясь на анализ исторической прогностической альтернативистики, укорять революционеров начала прошлого века
в утратах страной по их вине исторических перспектив. Но лауреат Нобелевской премии по экономике, бывший директор МВФ и МБРР Джозеф Стиглиц, обсуждая аналогичный вопрос «Кто потерял Россию?», дал в отличие от Говорухина иной, причём недвусмысленный ответ — потеряли её (нео)либеральные российские, под руководством западных, трансформационники. (См.: Кто потерял Россию? // Наука, культура, общество. № 4. С. 214—244).
Практического смысла в этом, как правило, нет; история всегда осуществляется в одном варианте. Манипулятивный, агитпроповский эффект же, особенно в среде ныне утратившей свои ценностные ориентации отечественной образованщины, значительный. Отсюда, можно
полагать, вытекает любовь адептов буржуазной идеологии к псевдоисторическим постановкам типа «Имя России», «Суд памяти», «Исторический процесс» и тому подобным манипулятивным шоу.
Но в таком случае не возбраняется и нам, оппонентам этих адептов, напомнить нынешним певцам антикрепостнического Манифеста 1861 года и обеспечивавших его реализацию либеральных реформ, что у этих реформ была, тогда же весомо озвученная, историческая альтернатива.
Её ядром обозначалась способная на тот момент обеспечить традиционно самобытный путь державного развития России общинно-кооперативная форма организации. С середины XIX века эта, многими столетиями апробированная российским крестьянством, организационная форма бытия становится одним из основных объектов внимания среди феноменов идейной и общественно-политической жизни России. Царизм и его идеологи видели в общине, хранившей православную традиционность и консерватизм, социальную опору самодержавия. С другой стороны, демократические силы (А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский, народники), напротив, видели в ней в первую очередь хранителя не клерикально-консервативной самодержавности, а цивилизационную традиционность общественного бытия и почти готовую ячейку организации возможного социалистического строя, способную обеспечить безболезненный, некапиталистический путь развития России.
Их поддержал К.Маркс, рассмотрев в письме к В.И.Засулич социально-культурный и политэкономический потенциал российской общины. (См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Избр. произв. — М., 1981. Т. 3). Он показал и то, почему, в силу стечения каких исторических условий Россия оказалась на перекрёстке судеб, допускавшем такой выбор. Причём речь шла не только о развитии крестьянского сообщества, но и о кооперативно-общинном переустройстве всей общественной жизни страны, включая её политический строй. Возможность такого использования организующего потенциала этой формы для основной массы российского населения давал её тысячелетний опыт общинно-коллективистского взаимодействия. В том числе не только в форме сельской общины, но и организованной по установлениям Сергея Радонежского монастырской жизни (киновии*), казацкого товарищества, основанных
на вере так называемых хозяйственно-экономических общественных компаний раскольников и т. д.
_____
* Киновия — совместная жизнь, общежитие) — христианская монашеская коммуна, монастырь общежитского устава, одна из двух (наряду с отшельничеством) форм организации монашества на начальном историческом этапе. — Ред.
Россияне ментально и духовно тянулись к основанному на такой организации образу жизни, о чём свидетельствовал бурный успех артельных и кооперативных форм. За несколько десятилетий Россия вышла на первое-второе (наряду с объединенной англо-шотландской кооперацией) место в мире по массовости кооперативного движения. Кооперативный опыт, в совокупности с опытом общинной демократии, обеспечивал ей возможность развития социалистического народовластия на принципах трудового и общественного, локального, регионального и общероссийского самоуправления. При определённых условиях это обстоятельство могло обеспечить эволюционный путь социалистического развития России, без террора и классовых революций. Такое некапиталистическое развитие не игнорировало бы неизбежность промышленно-городского развития российского общества и урбанизации российской деревни. Зато императивная потребность страны в историческом повороте от земледельческих (биологических) производительных сил к индустриально-техническим, и соответственно, к постиндустриальным, была бы осуществлена, можно полагать, более мягко для российской цивилизации.
К сожалению, на тот момент в России не нашлось необходимых общественно-политических сил, чтобы воспользоваться уникальной и кратковременной возможностью для страны избежать «язв капиталистического развития», причём в худшем западноевропейском варианте. Самодержавие в союзе с западоидной либеральной «элитой» образованных людей сумело отчасти идейно раздробить антикапиталистически настроенную, но политически незрелую разночинную интеллигенцию, отчасти уничтожить её радикальные ветви, казнив или сослав на каторгу главарей, а также манипулятивно дезориентировать её основную массу.
Легальные марксисты В.П.Воронцов, Н.К.Михайловский, П.Б.Струве и иже с ними в подтверждённой К.Марксом возможности использовать общинно-кооперативные формы организации бытия для развития России по социалистическому пути увидели только один аспект защиты её от «язв капитализма». А именно: возможность предохранения «от язв пролетарьянства» путём развития промышленности в форме сети мелких кооперативных предприятий, что неизбежно обрекало бы страну на дальнейшее технологическое отставание от индустриально развитых зарубежных стран.
Российский рабочий класс ещё только зарождался и не имел достаточно ясного осознания своих классовых интересов. Крестьянство же, хотя и бунтовало, но было разрозненно. Сеть его общинно-кооперативных организаций не имела общероссийского характера, правящие в стране политические «элиты» были достаточно опытными, чтобы не допускать этого. В этом они опирались на самодержавно-либеральную политику кнута и пряника для общинного крестьянства.
Политика правящих кругов царской России по отношению к крестьянской общинной деревне вообще определялась на протяжении длительной истории, с одной стороны, особенностями геополитического положения России, её природными и социальными условиями, а с другой — своеволием, субъективизмом царствующих особ и господствующих классов. Российское общество практически ничем не ограничивало такую власть, несмотря на эпизодическую открытую борьбу с ней самого крестьянства и скрытое сопротивление отдельных социальных групп, например, демократов-разночинцев — самодержавию. Такое положение искони складывалось в силу особых географических, природных, хозяйственных, демографических и социальных условий общественного развития, которые в решающей мере определили социально-политическую специфику управления земледелием и крестьянством, коренным образом отличающегося от западных его моделей.
Русские произошли от славянских племён, проживавших в Центральной Европе однородной, этнически недифференцированной массой.
В середине первого тысячелетия н. э., после массового наплыва азиатских племён и под нажимом теснимых аварами готов, значительная часть мирных славянских племён вынуждена была отправиться на восток, где рассеянно проживали родственные им финны и литовцы, селясь среди них компактными группами или же, в свою очередь, вытесняя их.
Географическое пространство нового обитания будущих русских славян отличалось в основном бедными почвами, за исключением южных чернозёмных лесостепных и степных районов, где доминировали воинствующие тюркские племена. Характеризовалось это новое место обитания худшими, чем прежнее, его природно-климатическими условиями. В частности, незначительным количеством тёплых дней, огромными, покрытыми непроходимыми лесами пространствами. Продолжение свойственного ранее славянам скотоводства и земледелия в таких неблагоприятных условиях было невозможным. Что и обусловило формирование общественной специфики их дальнейшего существования на протяжении всей истории Руси-России. Серьёзные и трудноразрешимые проблемы создавало не только северное расположение их новой родины, но и то, что господствовавшие в южных чернозёмных землях воинственные соседи совершали на них набеги. В лесной зоне с неблагоприятными климатическими условиями трудно было делать ставку на экономичное мясомолочное хозяйство, которое требовало высокой урожайности зерновых и других культур. Не способствовала подъёму сельского хозяйства и малочисленность торгово-ремесленного населения, поскольку из-за этого хлеборобы на Руси вынуждены было ограничивать своё сельскохозяйственное производство задачами самообеспечения семьи. При слабости, из-за малолюдства и лесного бездорожья, собственного внутреннего рынка нельзя было сформировать, а из-за больших расстояний затруднительно было воспользоваться и внешним, поскольку абсолютное большинство славянского населения оказалось вдали от благоприятных великих торговых путей или же эти пути были блокированы недружественными народами. Поэтому славянские новопоселенцы здраво рассматривали землю лишь как источник пропитания, а не обогащения. Отсюда и соответствующее отношение к земле и земледелию, которое не способно было обеспечить приличную жизнь. Не имея возможности превратить его продукцию в товар, о приумножении плодородия земли не заботились, тем более что земельные просторы были немеряными.
Поскольку земля не давала богатства, то будущие россияне в значительной степени приспособились промышлять богатствами огромной лесной полосы, особенно тайги. Это изобилие природных богатств
не только позволяло жить в относительном довольствии, но и заготовлять «дары леса» и торговать ими, особенно пушниной. И только в середине XVIII века в России на этой основе возникает кустарная промышленность, которая ещё лишь через столетие начала перерастать в фабричное производство.
Природные условия развития сельского хозяйства и другие обстоятельства вынуждали крестьян трудиться сообща, отказываться от единоличного земледелия; последнее в основном было распространено
на чернозёмных землях или в западных губерниях с благоприятным климатом. В коренной же России крестьянство существовало и развивалось в общине. Последняя была необходимой предпосылкой его хозяйственной деятельности, поскольку в условиях низкой производительности труда индивид был не в состоянии добыть себе необходимый минимум средств существования. На первичных стадиях развития земледельческого общества индивид существовал лишь как член семьи и естественно сложившейся общности. Община, по словам Маркса, сама выступала в качестве «первой производительной силы».
По мере развития производительных сил усложнялась и внутренняя структура русской, затем и российской общины. С переходом от присваивающей экономики к производящей, с развитием земледелия и земледельческого образа жизни создались условия для индивидуализации производства, укреплялась и расширялась хозяйственная роль семьи, повышалась ценность производственно-земледельческого опыта, знания и т. п. Особую роль в индивидуализации земледелия начали играть специализация, обмен продуктами деятельности, отделение организаторских, управленческих функций от производительного труда.
Зародившаяся социальная власть (управление) на первых порах существовала внутри общины, она не была отделена от неё. Однако уже
в её относительной самостоятельности была заложена возможность перехода к власти политической, стоящей над общинным миром. Русская средневековая община фактически являлась одним из вариантов азиатской формы хозяйственной организации бытия трудящихся-аграриев, развивавшейся в условиях относительного многоземелья, территориальной оторванности, распылённости, низкой концентрации населения. Позднее община в России претерпевает существенные изменения, превращаясь в форму социально-политической организации бытия земледельцев, знаменуя начальную стадию формирования субъектности деревни. В ней становится нормой проведение уравнительных переделов земли, по результатам которых крестьянская семья
получает определённую долю в общем землепользовании. Причём доля периодически меняется по размеру и местоположению. Однако эти же и другие меры поддержания локальной жизнеспособности общины усиливали её финансово-административные права по отношению к рядовым общинникам, затрудняли выход крестьян из общины, консервировали сложившиеся общинные производственные отношения и крестьянский образ жизни. Община и её выборные представители стали всё чаще выступать социально-политическим органом, регулирующим хозяйственную и бытовую жизнь крестьян.
В ходе обеспечивающих реализацию Манифеста 1861 года реформ, особенно на первых порах, царские власти покровительствовали общине. Но именно тогда уже под положение общины как социально-политического института были заложены законодательные мины, обеспечивавшие превращение её в послушное звено системы самодержавного управления. На неё возложили задачи фиска и контроля за «благочинием» общинников. Аналогичные права и обязанности были закреплены за сельским сходом — собранием глав крестьянских домохозяев, которые избирали сельского старосту.
Но неожиданно для реформаторов, община стала бороться за сохранение и развитие у неё функций самоуправления. Дореволюционные и советские историки свидетельствуют, что сельский сход стремился выступать одновременно: в качестве избирательного собрания, назначая должностных лиц и указывая кандидатов для исполнения обязанностей волостных судей; в качестве органа хозяйственного управления, производя развёрстку податей и определяя способы взыскания недоимок; как контрольное учреждение, производя учёт сборщику податей и сельскому старосте; в качестве учреждения, обладающего судебной властью, лишая, в виде наказания, права голоса отдельных сельчан и постановляя приговоры об отдаче «порочных однообщинников» в распоряжение правительства; в качестве опекунского учреждения, назначая опекунов и попечителей над личностью и имуществом малолетних сирот и производя учёт и проверку действий этих лиц; в качестве сословного учреждения с «государственным значением», возбуждая перед правительством ходатайство о местных нуждах.
Обнаружив, что либеральные реформаторы пытаются деформировать её сущность и откровенно грабят, община перешла в оппозицию
к власти. По этой причине разночинная интеллигенция усмотрела основную революционную силу не в рабочих, которые ещё носили на себе мужицкое родовое пятно, а в крестьянстве и пошла в народ, породив движение народников. Царские власти отреагировали на это усилением бюрократического контроля над общинным самоуправлением, введением земских участковых начальников. В связи с этим, начиная
с 1880-х годов, в российской деревне стала явственно нарастать социально-политическая напряжённость. В ходе революции 1905—1907 годов община активно использовалась крестьянами как «аппарат для воздействия на помещичьи усадьбы», что повлияло на коренное изменение политики самодержавия и помещиков по отношению к ней. Они перестали покровительствовать ей, и более того, взяли курс на уничтожение общины как демократического института крестьянства, на трансформирование крестьянского сословия в класс мелкобуржуазных товаропроизводителей.
Крах попыток Столыпина сформировать буржуазный
массив носителей субъектности российской деревни
Вообще, предпринимая реформы в развитие положений антикрепостнического Манифеста 1861 года, царское правительство надеялось сформировать из бывших крепостников ментально преобразовываемых созданной этими реформами необходимостью жить не рентой
от эксплуатации крепостных, а умениями эффективно организовать прибыльную производственно-хозяйственную деятельность, массовую когорту выразителей воли сплочённой их усилиями в любви и преданности самодержавию деревни. Но крупно просчиталось: из Савла
не удалось образовать Павла. Избалованное обеспечиваемым крепостническим хозяйствованием через подручных слуг — бурмистров, управляющих и т. д., прежней малодеятельной жизнью — дворянство двинулось ради продолжения такого комфортного существования по пути иждивенческого прожигания, полученных от правительства за освобождённых бывших их крепостных капиталов и наследственных достояний, стало обрастать залогами имущества и т. п. Штольцев из их среды выросло мало. А авторитетных среди жителей сельских поселений общественных деятелей ещё меньше.
В результате в последующие 45 лет после появления Манифеста обманувшаяся в ожиданиях справедливого решения аграрно-крестьянского вопроса российская деревня превратилась в одних местах
в анархично охваченное протестами мужицкое море, в других — в юдоль крестьянской нищеты и безработицы. Поэтому царствовавшие Романовы и чиновная «элита» самодержавного двора упорно продолжили историю попыток сформировать массив слоя агентов процессов субъективации функционирования российской деревни, которые преследовали своей целью замену одних душителей субъектности крестьянства другими. Её продолжил по следам революции 1905—07 годов премьер-министр П.А.Столыпин. Однако и его реформы оказались в этом аспекте неудачными. Обострив в деревне экономическое расслоение и классовые противоречия, они создали в целом мощные стимулы
для борьбы деревни за волю и долю. Иначе, за подлинное решение аграрно-крестьянского вопроса и социально-цивилизационную субъектность деревни.
По правде говоря, Столыпина трудно назвать творцом упомянутых реформ. Полемизируя с убитым эсером Сазоновым министром внутренних дел реакционером В.К.Плеве, ратовавшем за реставрацию крепостнических порядков, разработал основные положения столыпинской реформы поклонник западного пути развития Витте. Более детально готовили
её товарищ министра внутренних дел, сын варшавского генерал-губернатора Гурко и главный правительственный «теоретик» по землеустройству датчанин А.А.Кофод, приехавший в Россию в возрасте 22 лет, долго живший в псковской датской колонии, ни слова русского не знавший. То есть люди, плохо знавшие русскую деревню, их понимание её субъектности
не выходило за рамки прусско-европейских форм «орднунга» сельского бытия, обеспечивающего интересы зажиточной части сельского населения посредством бюрократического опутывания деревни сетью цензовых правовых ограничений, дозволений, наказаний и поощрений.
Между тем, именно в это время стала действенно, но стихийно проявляться её общероссийская цивильно-институциональная субъектность. До этого интересы её на общегосударственном уровне выражали сугубо в пользу себе дворяне-крепостники, к которым в последние десятилетия присоединились крупные буржуа-латифундисты. И только на локальном уровне иногда принимался во внимание голос сельской общины, представлявшей собой обработанный для удобства верхов реликт родовой формы выработки социально-экономических и социально-политических компромиссов.
Сегодня, когда российские либералы западоидного типа, торжествуя успех возрождения в стране эпохи не совсем классического, а ещё более неправедного накопления капитала, обеспечивающего эксплуатацию людей, ставят памятники своему гуру Столыпину, уместно хотя бы кратко вспомнить некоторые аспекты его правления. А именно: социально-политическую сущность его аграрной политики; того, на какие силы и стимулы он рассчитывал, затевая и проводя её; влияния его аграрных реформ на жизнь деревни; роль его аграрных реформ в свержении царизма. А также то, как связана не только аграрная, а вся политическая практика Столыпина с тем, что при последних Романовых русские в России утратили было (к счастью, временно) качества нации. Внешне цели реформатора состояли в том, чтобы утихомирить деревню, в которой проживало ещё свыше 4/5 населения страны, в основном крестьяне. Они повсеместно начинали бунтовать, убедившись, насколько нагло обманули их ожидания в 1861 году.
После объявления Манифеста, по данным приводимым современным историком В.Я.Гросулом, уже в конце 1861 года голод поразил несколько поволжских областей России. Довольно пагубным был смоленский 1867/68 годов голод. В 1872 году разразился самарский (а это была житница страны) голод. Значительными были голодовки 1880 и 1885 годов. Голод
1891 года поразил 29 губерний. Известны голодовки 1892, 1897—98 годов. В 1905-ом массовая голодовка затронула 22 губернии. Ощутимой она была также в 1906—1908 и 1911 годах. Всего за полвека после «антикрепостнического» Манифеста Россия пережила 25 региональных крупномасштабных голодовок, поставивших людей на грань смерти.
Вообще-то хлеб в стране был, но его вывозили в Европу. Это, кстати, первая примечательная черта воспеваемой нынешними российскими трансформационниками Столыпинской реформы. В результате её, как отмечал в своей монографии «Рынок хлебов и его регулирование
во время войны и революции» классик экономики и социологии Н.Д.Кондратьев, за 1908—1912 годы скудно обеспеченные землёй страны потребляли пшеницы на душу населения больше, чем богатая ею Россия: Бельгия — 20,1 пуда, Франция — 16,4, Германия — 15,3,
а Россия — 14,8 пуда. Он также писал, что «избытки хлебов в России, товарность этих хлебов и развитие экспорта их базируются, в общем, на относительно низких нормах потребления широких масс населения…». И кстати, не большевики, обвиняемые буржуазным агитпропом в этом, а царское правительство указом «О развёрстке зерновых хлебов и фуража» от 29 ноября 1916 года впервые ввело в практику «принудительную продразвёрстку». При Столыпине страна экспортировала 75% масла, 15% пшеницы, 31% — ячменя, 8% — сахара. Если основной мировой экспортёр США устойчиво вывозили всего 8% своего хлебного сбора, то Россия довела экспорт до 20%, и это тогда, как остаток его у первых составлял 66,9, а в нашей стране 22,4 пуда на душу населения. Однако царизм, погрязнув в долгах европейским банкирам, игнорируя это обстоятельство, поощрял зерновой экспорт. Министр Вышнеградский, успокаивая Запад, заявил, «недоедим сами, но вывезем».
Запад за счёт дешёвого русского хлеба развивал комбикормовую промышленность и животноводство, а в России коровы от бескормицы доились, как козы. Особенно в трудном положении оказалось бывшее крепостное крестьянство: если государственные и удельные крестьяне — 47 и 6,7% этого сословия — получали в надел в среднем 7—9 десятин на душу, то бывшие крепостные (46%) или ничего — дворня, или по 2—5 десятин.
А при росте численности этого крестьянства, их наделы быстро мельчали, и они, всё чаще недоедая, начали бунтовать. Если в середине 60-х годов нехватка земли была причиной 31% крестьянских выступлений, а 43% тяжесть податей, то в конце 1890-х годов, соответственно, 81 и 10%.
Недовольство деревни усилилось поражением в войне с Японией, уязвившее её сердце, поскольку больше всего на ней погибло крестьянских детей. По стране в одиночку и толпами бродили нищие паломники, жаждавшие подачек монастырей. За первые пять лет
ХХ века от аграрного дела было отчуждено 15—20 миллионов сельчан и лишь немногие из них находили иные занятия. Безработные сбивались в банды. По всей стране запылали пожарами уютные, нередко имевшие национальную культурную ценность, дворянские усадьбы.
Поэтому задача успокоения доведённых до отчаяния масс деревни была на тот момент действительно насущной для державной безопасности России. Добиться этого можно было только смягчением их социальной эксплуатации, внедряя в практику апробированные православными монастырями методы киновии (коллективной работы) и доказавшую свою успешность кооперацию.
Столыпин избрал иной путь — смены крепостнической формы эксплуатации другой, социально ещё более несправедливой — капиталистической. Воспитанный в прозападной дворянской среде пограничной Литве и Польше Двинской губернии, поварившись, будучи её предводителем, в котле настроений прозападной «элиты», он завидовал прусско-германскому «орднунгу», видя его основания в буржуазной организации жизни на приоритете частных экономических интересов.
Не желая замечать органическую связь его с экономической эксплуатацией и бюрократизацией деревни.
Понаблюдав далее в бытность саратовским губернатором в годы первой революции за поведением русских крестьян и бауэров в поволжской немецкой колонии, Столыпин окончательно пришёл к выводу, что главным препятствием в русской деревне утверждению приоритетов частного интереса (следовательно, и эксплуатации) является стимулирующая своеволие деревни сельская мужицкая община.
И действительно, сами исторические условия формирования сословной государственности и экономики России побудили общину обретать социальные функции защиты самоё себя от чрезмерной жадности охочих нажиться на мужике мироедов.
В библиотеке реформатора, кстати, имелась книжка «Отечественных записок» с исчёрканным им упоминавшимся письмом Маркса к народоволке Засулич. В нём тот называл русскую общину организационной формой, используя которую Россия имела счастливую возможность перейти мирным путём от крепостничества к социализму, минуя стадию социальных язв капитализма. В предшествовавшие первой российской революции годы община стала привычной опыту простонародья, исходившему из «обычного права», организационной формой выражения его протеста. В полемике различных политических сил по поводу неё оттачивалась стратегия и тактика грядущей революции.
И неудивительно, что Столыпин со свойственным ему радикализмом сделал ставшую душой земли (деревни, крестьянства) общину главным врагом. Все основные мероприятия его аграрной реформы с 1906 года были так или иначе направлены на её разрушение. Поощрялся выход
из общины на отруб, чтобы создать слой зажиточных хозяев. В действительности аграрным делом после выдела из общины продолжали заниматься немногие, поскольку 4/5 выходцев из неё, не имея тягла, продали наделы и уехали в город, где треть их вскоре пополнила ряды безработных. Инициировалось массовое переселение, выделившихся из общины на отруб крестьян за «Уральский камень». Из 2,7 млн. переселенцев более 0,8 млн. вернулись обратно, пополнив ряды нищих, 0,7 млн. нищенствовали в новых местах, 100 тыс. умерли от голода и болезней.
В отличие от зарубежного аграрного дела технический прогресс обошёл «столыпинскую» деревню. В 1913 году в ней было всего
152 трактора, небольшое количество сеялок и механических молотилок. В десятки и сотни раз меньше, чем в Бельгии, Голландии, Дании. Не говоря о Франции, Германии, США.
Более половины крестьянских хозяйств России довольствовались сохами и косулями. Почти треть их была безлошадными и бескоровными. При отсутствии минеральных и нехватки органических удобрений поля давали скудные урожаи. Отсюда и голод. В 1901—1912 годы от него умерло около 8 млн. человек. В 1911—1912 годы голодало население 60 губерний, на грани смерти находились 30 млн. их жителей.
Почитатели Столыпина лживо утверждают, что экономика России 1913 году была на 4-м месте в мире, бурно росла и, если бы не революция, поднялась бы на 1-е место. Действительно, она входила в пятёрку крупнейших, но доля её в общемировом производстве составляла тогда 1,7%, а Германии — 9%, Англии и Франции — 15—18%, США — 20%. Притом в годы правления Столыпина, как и в предшествовавшее время, российское экономическое отставание только росло. Разорённые неудачным переселением их по воле Столыпина на восток страны, раскрестьяненные борьбой реформатора с общиной, множась массой, безработные стали страшной для самодержавия социальной силой. Становилось всё очевиднее, что реформы терпят крах. Ядро общины устояло, она всё сильнее накалялась бунтом, из-за чего дворянство стало спешно переселяться в города. В результате гнев мужиков переключался на порождённых реформами кулаков, помогавших реформатору обольщать «мир» клерикалов и на самодержавие.
Власти начали догадываться о пагубности для них политики Столыпина. Породив новые дополнительные линии социально-классового раскола сельского населения, усиленный его реформами, рождённый на Западе приоритет частного экономического интереса начал всё более основательно подрывать и без того относительное социальное единство самодержавного строя. Он до такой степени усилил коррумпированность, что в неё были вовлечены даже члены царской семьи. Оборонные ведомства и заводы стали средоточием воровства, порождая недовольство военных, видевших безнаказанность этих действий. И потому даже в среде обогатившихся на реформах воротил, жаждавших по наущению зарубежных коллег-масонов ещё больших экономических свобод, стали зреть заговоры против самодержавия.
Этот дух охватил Земский и Горный союзы столыпинских выкормышей, слившихся в 1915 году в политический олигархический конгломерат «Земгор», сыгравший существенную роль в свержении Романовых. Московские купцы и петербургские бюрократы начали заигрывать с оппозицией, образуя единый, противостоявший погрязшему в интригах самодержавию, лагерь. Обострилась возникшая в эпоху правления Романовых угроза вымирания русской нации, многие столетия составлявшей не резервный, а конституирующий фонд жизненной силы России.
Как известно, нация — это исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности: а) языка, б) территории, в) экономической жизни и г) психического склада, проявляющегося в общности культуры. Причём этот институт является таковым при наличии всех признаков, взятых вместе. Так вот, все они деградировали. Одна часть народа не понимала другую. Уже в пушкинские времена российская правящая «элита» мыслила и говорила только по-французски, а в годы правления Столыпина пропасть между погружаемой в болото модернизма интеллектуальной «элитой», образованщиной и «улицей безъязыкой» становилась большей, чем между многоэтничными общностями. Тем более, что, разбазаривая державные территории
с дружественным населением, Романовы авантюрно оккупировали близкую им любовными связями с её аристократией Польшу и Финляндию, народы которых нас всегда ненавидели. То и другое подрывало территориальное единство России.
Что касается экономики, то в ней хозяйствовал западный капитал и
в годы правления Столыпина процесс утраты государствообразующей русской нацией прав её собственности на свои богатства ускорился.
О единстве психического склада правивших классов и подневольного народа к началу ХХ века и говорить было смешно. То же самое об общности культуры наций и единении крупных классовых групп.
Первая Всероссийская перепись населения показала: в Европейской части России грамотных дворян — 100%, буржуа — 99%, мещан —– 87%, рабочих — 51%, крестьян — 14%. В целом по России — 23%,
в городе — 47%, в деревне — 16%. Вопиющее неравенство в образовании, находившее продолжение в неравенстве культуры бытия, особенно в доступе к квалифицированному труду и цивилизованному быту. Нынешние либералы в заслугу Столыпина ставят попытки ликвидировать неграмотность сельского населения. Действительно, было открыто 50 тыс. приходских школ, провозглашалось намерение открыть
за 25 лет ещё 150 тыс., на сельскохозяйственных курсах в 1912 году обучалось 58 тыс. слушателей. Но это капля в море в расчёте на более чем миллион сельских населённых пунктов. К тому же тормозилось развитие высшей и средней школы. И общая картина господства безграмотности осталась безотрадной. В США даже среди негров грамотных было 56%, в Германии — 98% от всего населения. А у безграмотных и субъектность может быть только анархичной и чаще всего вредной для самих её носителей.
Всё это в совокупности и обусловило трагический исход для реформатора Столыпина, убитого в Киеве агентом охранки Дмитрием Богровым. А вскоре началась Первая мировая война, которая, как и рассчитывала «элита» самодержавного романовского общественного строя, временно отодвинула решение аграрно-крестьянского вопроса в череде насущных забот страны во второй-третий ряд.
Империалистическая и Гражданская войны
как факторы формирования негативной
для эксплуататорского правящего режима
субъектности деревни
С негативным историческим наследием Столыпина аграрная российская держава была ввергнута Николаем II в Первую мировую войну за чуждые ей интересы обретения Босфора и Дарданелл, а в действительности за передел мира в пользу зарубежных стран. Для самой России в нём не было ни малейшего смысла, но правившие ею самодержавные круги согласились народной кровью оплатить свои долги французским и английским банкирам, образовавшиеся, кстати, во многом из-за упомянутой ранее былой необходимости государства выплатить бывшим крепостникам отступные за их прежних подданных крестьян. И главное, эта война позволяла отвлечь внимание деревни, жители которой составляли подавляющее большинство населения России, от насущной необходимости решения аграрно-крестьянского вопроса и обеспечения ей возможности невозбранно осуществлять потенциал своей подлинной субъектности. По сути, с началом Первой мировой войны наша деревня в августе 1914 года начала свой путь на Голгофу
из череды национальных катастроф.
Начался этот путь с военных катастроф. Воровство отечественных казнокрадов в предвоенные годы, саботаж иностранных владельцев заводов в делах подготовки их к выпуску военной продукции, мошенничество интендантов оставили российскую армию с минимумом снарядов, патронов, винтовок и прочего снаряжения. Поэтому уже в начале войны она потерпела крупное поражение в районе Мазурских озёр, где германская артиллерия можно сказать показательно расстреляла российских воинов, когда те, имея по десятку и менее снарядов на орудие и винтовки устарелых образцов, оборонялась от неё штыками. Погибли сотни тысяч человек, прежде всего недавних хлеборобов, ибо из 13,5 млн. мобилизованных в ходе той войны 12,9 млн. были из деревни.
Наши хлеборобы гибли на восточноевропейских просторах и в закавказских теснинах, тысячи их погибали и на Западе в Иностранном легионе чужой им и далёкой Франции, а тем временем в российской деревне основной рабочей силой становились женщины, дети и старики. В 50 губерниях и областях европейской части России мобилизовано было 47,4% трудоспособных мужиков. К тому же реквизировали, мобилизовали и скупили по минимальной цене 2,6 млн. лошадей. Резко снизилась поставка серпов, кос и другого сельхозинвентаря. Увеличились налоги и натуральные повинности. Производство сельхозпродукции к 1916 году сократилось вдвое. Этому способствовало обострение аграрно-земельных противоречий. В 1905 году в Европейской России было 10,5 млн. крестьянских хозяйств, владевших в среднем по 5—7 десятин земли, 1,0 млн. середняков — с 15-ю, 1,5 млн. дворян и кулаков — с 46—47 десятинами и около 30 тыс. дворян-латифундистов —
с 2,3—2,4 тыс. десятин у каждого.
В ходе столыпинских аграрных реформ надельную землю распродало свыше 1,2 млн. дворов, 5 млн. крестьян стали батраками, 1,5 млн. ушло из сельского хозяйства. Земли у бедняков стало на 7 млн. десятин меньше. Столько же её распродали дворяне, бежавшие из деревни
в город. Эта земля попала в руки буржуазных дельцов, кулаков и подкулачников, которые к тому же даже в 1917 году, когда посевы сокращались, арендовали у помещиков-латифундистов 13 млн. десятин.
Возвращаясь с фронта, прихватившие свои винтовки, многочисленные инвалиды и дезертиры, заставая дома картину разорения и несправедливости, естественно, начинали бунтовать. Погромы скоро превысили масштабы тех, что были накануне первой революции. Советы общинных стариков стремительно перерождались по примеру городских рабочих в Советы крестьянских депутатов. Таким образом империалистическая война становилась мощным фактором формирования негативной для правящего самодержавия субъектности деревни и её представителей, бывшими в силу их массовости фактически стержнем спокойствия или бурления всего российского социума. Те мужики, которые оставались верными воинской присяге, получая вести из деревни о событиях в ней, создавали Советы солдатских депутатов. И когда произошёл Февральский переворот, они с большими надеждами поддержали его.
…Прошли недели, месяцы после ликвидации режима самодержавия, но ничего хорошего в жизни деревни не происходило. Наказ 467 Советов крестьянских и солдатских депутатов, эсерами забалтывался, а положение только ухудшалось. Временное правительство начало посылать в деревню продотряды, поскольку из-за малых урожаев крестьяне перестали продавать — из-за неимения его — хлеб городу, а сельская буржуазия свой урожай придерживала, чтобы спекульнуть им, когда на него отпустят цены. Была введена продразвёрстка, которая распространялась как на зажиточных, так и бедных хозяев.
И снова начались крестьянские, а к ним добавились и солдатские бунты. Их интенсивность нарастала. В марте в 24 губерниях их было 257, в апреле уже в 42 губерниях — 879 крестьянских выступлений,
в мае-июне — 3 041, в июле-августе — 3 321. Эти бунты вскоре слились с революционной борьбой, поднятой большевистским Октябрем. Массовое участие в ней деревни предопределило его мирную победу:
в сентябре-октябре было 3 866 крестьянских выступлений. Причём месяц от месяца росло число выступлений бедноты против кулачества.
…Взяв почти бескровно власть и сформировав Советское правительство, победители в первый же день приняли два судьбоносных Декрета — о мире и о земле. Вторым Декретом, в соответствии с ранее названным Наказом Советов, были осуществлены вековые чаяния крестьянства: навсегда отменена частная собственность на землю и объявлена безвозмездная конфискация всех земель. Наказ был дан эсерам, но те много месяцев волокитили его реализацию, а Советская власть осуществила его сразу.
Нынешние радетели чистоты социализма из числа буржуазных антисоветчиков и антикоммунистов критикуют большевиков-ленинцев за то, что, взяв в основу Декрета о земле эсеровскую идею её национализации, то есть ещё не социалистическую, а общедемократическую меру, пристойную буржуазному, отнюдь не ориентированному на построение социализма государству, те-де изменили марксизму. Но Ленин и не обольщался в характере предпринятых тогда шагов, оценивая эту меру в качестве не только радикального акта ликвидации сильных ещё тогда феодально-крепостнических пережитков, но и средства создания гибкого строя для перехода к социализму в земледелии. (См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 326). И потому заложил в Декрет о земле «маленькую заручку», которая позволяла перекроить впоследствии содержавшуюся
в крестьянских наказах эсеровскую идею социализации на подлинно социалистический лад. Такую возможность обеспечивало содержавшееся в том Декрете требование охранять от грабежей высококультурные хозяйства латифундистов, отдавая их в исключительное пользование государства или общин. Эта мера позволяла начать реальное, сначала точечное, а затем и системное, создание социалистического аграрного сектора в частно-крестьянской деревне. (См.: История коммунистической партии Советского Союза. Т. 2, кн.1. — М., !967. С. 336).
Более того, стремясь обеспечить деревне всю полноту цивильно-институциональной субъектности, уже на третий день новая власть приняла постановление о созыве в ближайшее время Всероссийского съезда крестьянских депутатов, и он начался 10 ноября 1917 года. Началось мирное строительство государственной, социально-культурной и народнохозяйственной жизни в городе и деревне. Однако утерявшие господство силы не хотели смириться с этой утратой и развязали сначала белый террор, а затем, призвав на помощь зарубежных интервентов, войну интервентов против социалистической власти.
Но революция ничего не стоит, если она не умеет защититься. На белый террор Советская власть, естественно, ответила красным террором. Бесчинствам белогвардейцев и интервентов дала отпор родившаяся в январе-апреле 1918 года Красная Армия.
Разгорелась Гражданская война, закончившаяся только в 1922 году. И это в стране, покрытой руинами предыдущих перманентных на протяжении четырёх лет военных катастроф.
Гражданская война для нашей деревни оказалась путеводной к собственным интересам.
Во-первых, именно деревня давала основную силу её фронтам. Если первоначально в Красную Армию шли преимущественно рабочие-добровольцы, то с осени 1918 года она становится преимущественно крестьянской. К осени 1920-го её численность превысила 5,4 млн. человек, из которых более 4 млн. были из крестьян. А ведь немало зажиточных и обманувшихся сельчан было и в рядах белых.
В юбилейные дни столетия Красной Армии некоторые историки внушали россиянам, что своими победами она была обязана забывшим присягу царским офицерам. Не будем отрицать это. Российский офицерский корпус в значительной части перешёл на сторону красных, поскольку большевики боролись за державность России и справедливость, а белые, вступив в союз с интервентами из 14 стран, готовы были поступиться её целостностью ради того, чтобы отстоять обрыдлый всем, в том числе офицерам, строй эксплуатации. Кадровые военные сыграли выдающуюся роль в организации советских армейских структур. Но не менее выдающейся была и роль командных самородков
из рабочих и крестьян. Трудящиеся составляли около 4/5 командиров Красной Армии: из рабочих —12%, из крестьян — 67,3%, из интеллигенции — 20,7%.
Во-вторых, не менее ожесточённая, социальная, принимавшая нередко вооружённый характер, борьба шла внутри деревни. С осени 1917-го по осень 1918 года она шла в связи с конфискацией и распределением земли. Конфискованных казённых и монастырских, а также излишков помещичьей земли было мало, чтобы обеспечить ею по рациональным нормам малоземельных крестьян, численность которых умножилась за счёт возвратившихся из-за разрухи городской промышленности в деревню рабочих, то есть вытолкнутых столыпинскими реформами бывших сельчан. И они потребовали перераспределить излишки земли у кулаков и подкулачников. А те, в свою очередь, подстрекали бедняков на грабёж культурных имений помещиков, которые Советское правительство ещё в Декрете о земле предлагало сохранить для создания коллективных аграрных хозяйств.
Параллельно с этим вспыхнула борьба с продовольственным кризисом. Накануне Октября анкетные обследования в 30 губерниях, 5 областях и краях показали, что голод в городах и среди сельчан-бедняков уже царил во всех потребляющих и частично в производящих регионах. Между тем у зажиточных земледельцев, а это были в основном кулаки, имелись значительные запасы товарного хлеба, но они его придерживали в целях спекуляции, которую вскоре и развернули по всей стране. По их инициативе страну наводнили миллионы мешочников. Занимая вагоны и захватывая пароходы, они парализовали транспорт. Одни
из этих мешочников везли хлеб из благополучных зернопроизводящих мест домой котомками, спасая семьи от голода, другие вагонами, подкупая поощряемых в этом ВИКЖЕЛем железнодорожников, чтобы спекульнуть в местах, где он дороже. Значительные запасы хлеба были
в Сибири, но антисоветски настроенные чиновники ВИКЖЕЛя саботировали, а потом и вовсе запретили везти его в Европейскую Россию, где были основные революционные силы, стремясь по совету черносотенца В.М.Пуришкевича «костлявой рукой голода» задушить Советскую власть.
Советское правительство обозначило сроки, в которые обязало продать излишки хлеба по твёрдым ценам. Продали только бедняки, а зажиточные владельцы его объявили саботаж, добиваясь преференций частной собственности. У них было свыше 70% товарного хлеба, но они его придерживали в своих закромах как действенное оружие борьбы
с Советской властью. Только в Сибири и только на самогон они извели 26 млн. пудов зерна, а весь советский аппарат заготовки смог закупить его в десять раз меньше — всего 2,6 млн. пудов.
Правительство, мобилизуя промышленность, увеличило производство плугов, кос, лопат, бытового ширпотреба и направило его в производящие хлеб регионы. А также, используя все резервы, в том числе продажу художественных ценностей за рубеж и конфискацию части церковной роскоши, направило туда же сотни миллионов, а затем миллиарды рублей. Но заготовки шли туго.
Между тем голод в Питере, Москве и других революционных центрах усиливался. И тогда рабочие заводов, фабрик по собственной инициативе стали создавать продотряды. То же самое начали делать деревенские комбеды. Во многих регионах стали формироваться мини-армии добывающих продовольствие армейцев, поскольку кулачество, правые эсеры и прочие антисоветские элементы развернули вооружённую борьбу с этими продотрядами. И тогда народилась красная продовольственная гвардия из числа рабочих.
Первые отряды сельской красной продгвардии появились в ноябре 1917 года. Весной 1918-го в уездах Европейской России они насчитывали 81 тыс. человек, в Сибири — 12—13 тыс. В борьбе за реализацию Декрета о земле и с кризисом продовольствия жертвами кулацко-эсеровской контрреволюции стали около 4,5 тыс. рабочих и 7 тыс. бедняков — бойцов продотрядов. Только в июле-сентябре погибло 5 тыс. сотрудников чрезвычайных комиссий и 10,5 тыс. советских, партийных работников и активистов комбедов.
Притом это было только начало, ибо месяц от месяца борьба эта ожесточалась, особенно в 1920 году, когда обширные зоны покрыла засуха, затем разразился всероссийский голод, впечатление о котором читатель может получить из трагической поэмы выходца из Поволжья А.Ширяевца «Царь-голод», которую он написал в Ташкенте, слывшем «городом хлебным».
Да и государство, напрягая все силы для отпора интервентам и белым, для помощи семьям красноармейцев и нищим, спасения донельзя разрушенной промышленности и хрупкой инфраструктуры тогдашних городов, 9-ти миллионной армии беспризорников и т. п., вынуждено было давить на деревню. Выжимая из неё жизненные силы, без переливания которых городу российская цивилизация могла бы и не выжить.
В 1919 году вспомнили предложенную некогда царскими чиновниками, а позднее заправлявшими во Временном правительстве эсерами продразвёрстку и ввели её, причём в соответствии с обстоятельствами наступавшего голода, интервенции более чем дюжины европейских стран и Гражданской войны, в жёстких формах. Крестьянин продыху
не имел от трудовой и гужевой повинности. И хотя для бедняков и середняков были сделаны поблажки, недовольны были все.
И если помещики и крупные сельские дельцы-буржуа в это время эмигрировали за рубеж, то кулаки, вовлекая в свою борьбу зависимых от них крестьян, ответили на это восстаниями, самое известное из которых Антоновское, потребовало отвлечения на борьбу с ним кадровой армии под руководством М.Н.Тухачевского, использовавшего газовые снаряды.
Впрочем, оный потенциальный наполеончик был не первым из тех, кто использовал тогда эти изуверские способы борьбы с мирным населением. Редкий цинизм проявил в использовании ядовитых газов в Гражданской войне и интервенции кумир западных интеллектуалов английский министр Уинстон Черчилль. Британский историк Джеймс Милтон поведал в газете The Guardian 1 сентября 2013 года: «Черчилль спланировал и осуществил продолжительные химические атаки на Севере России… В последние месяцы Первой мировой войны учёные правительственной Портонской лаборатории в графстве Уилтшир разработали ужасающее оружие, сверхсекретное „изделие М” — разрывные снаряды, начиненные высокотоксичным газом под названием дефениламинхлорарсин… Испытания показали, что неудержимая рвота, кашель с кровью и мгновенное парализующее безразличие были самыми распространенными реакциями. 50 тыс. единиц „изделия М” отправили в Россию; британские воздушные атаки с их использованием начались 27 августа 1919 г., целью стала деревня Емца в 120 милях южнее Архангельска… В сентябре газовым атакам подверглись деревни Чуново, Вихтово, Поча, Чорга, Тайвор и Запольки… Были сброшены тысячи боеприпасов. Когда пришлось убираться домой, оставшееся оружие сбросили в Белое море. По сей день оно лежит на глубине более 70 метров». Использовались английские удушающие газы и
на Южном фронте. В частности, 25 мая 1919 года миноносец № 77 обстрелял ими деревню Аджимушкай. Систематически использовали
их интервенты и белогвардейцы — под Царицыном, на Дону, в Крыму.
Сильно страдала деревня и от уравниловки инициированного Л.Д.Троцким «военного коммунизма». Белые же, те просто зверствовали, особенно колчаковцы, из-за уклонения крестьян от мобилизации.
В общем, доставалось деревне на орехи от всех.
И только закончив разгром врагов, новая власть задумалась, что крестьянин задыхается без свежего глотка свободы, и наконец, отменила продразвёрстку, многие повинности её, а вместе с тем и отказалась от политики «военного коммунизма».
(Продолжение следует).
Версия для печати