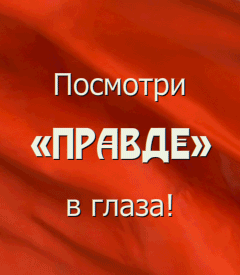С.В.Кожемякин Неуслышанные предупреждения Леонида Леонова
КОЖЕМЯКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, кандидат политических наук, собственный корреспондент газеты «Правда» (Кыргызстан, Бишкек).
Глубина кризиса, в который тридцать лет назад погрузились общества Российской Федерации и других бывших советских республик, чётко видна на примере литературы. Действительно талантливые произведения и великие имена либо замалчиваются, либо преподносятся в ложном свете. Их место заняла агрессивная серость, чей успех прямо пропорционален объёму грязи, выливаемой в окружающее пространство. Это видно на примере отношения к таким выдающимся мастерам слова, как Леонид Леонов. Изложенные в его книгах мысли сегодня пытаются извратить, навязав читателям ложное представление
о писателе, и без того почти позабытом в современной России.
Торжество беспамятства
От чего зависит количество читателей у автора? Первое, что приходит на ум — от таланта. Но это условие далеко не всегда является достаточным. Вспомним, как горячо надеялся Пушкин на время, когда:
Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык…
Чтобы понять чувства поэта, нужно иметь в виду, что даже самые выдающиеся мастера слова в царской России оставались писателями для образованного круга. А круг этот даже в начале XX века был очень узок. Положение изменилось после Великой Октябрьской революции. Поставив своей целью искоренение неграмотности, формирование образованной и всесторонне развитой личности, Советская власть сделала культуру достоянием всего общества. Литература — как классическая, так и современная — пошла в массы. Она перестала быть чем-то чуждым для человека, превратилась в часть его повседневного бытия. Начиная со школы — и даже раньше, с детского сада! — литературные сюжеты и герои окружали советского жителя и сопровождали его всю жизнь. Они напоминали о себе со страниц советских газет и с экранов советского телевидения, а цитаты и образы стали частью обыденного лексикона.
Это поражало иностранцев. Побывав в 1957 году на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве, будущий лауреат Нобелевской премии Габриэль Гарсиа Маркес как нечто фантастическое описывал беседу с советским студентом, случайно встретившимся ему на улице. Узнав о национальности собеседника, молодой человек решил поговорить о латиноамериканской поэзии и, к стыду Маркеса, оказался куда большим знатоком предмета, чем сам гость. Даже в самых развитых западных странах знание литературы и, в целом, знакомство с высокой культурой — удел элиты.
В этом смысле разрушение Советского Союза действительно стало возвращением к «общемировым ценностям» и обретением России, «которую мы потеряли». У современного жителя страны нет прямых путей к русской литературе. Связующим звеном ещё остаётся школа, но с каждой новой реформой эта тропка становится всё уже. Всё труднее человеку нащупать её, чтобы, преодолевая колючие заросли и топкие трясины современной эрзац-культуры, выйти на прямую и светлую дорогу любви к родному слову.
Потери, которые принёс с собой отказ от социализма, невозможно подсчитать. Но то, что он обернулся забвением огромного числа имён и вымыванием целых пластов культуры, совершенно очевидно. Сильнее всего пострадала советская литература. Идеологи рыночной России рисуют ложную картину той эпохи, как смеси страха, равнодушия и конформизма, где промышленность производила «одни галоши», а народ втайне ненавидел строй и постоянно дрожал за свою жизнь. А поскольку социалистическая культура легко опровергает эти мифы и проливает свет на истину, сегодняшние ниспровергатели хотят покрепче заколотить это окошко и не дать людям взглянуть через его незамутнённое стекло и на наше прошлое, и на настоящее.
Одним из тех великанов, которых пытаются задвинуть в пыльный угол беспамятства, является Леонид Леонов. Сегодня его имя почти забыто, хотя по своему таланту этот писатель уступает в XX веке разве что Шолохову и Горькому. «Он, Леонов, очень талантлив, талантлив на всю жизнь и — для больших дел», — писал последний ещё в начале 1930-х годов, добавляя, что Леонов продолжает дело классической русской литературы — дело Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Достоевского и Льва Толстого. «…Его талант, глубоко радуя меня, позволяет мне уверенно ждать от молодого автора книг, которые могуче послужат делу возрождения человечества, делу объединения его в единую всемирную семью», — подчёркивал Горький. А вот мнение младшего современника писателя — Юрия Бондарева: «На таких мастерах, как Леонов, держится и русская, и европейская культура».
Что же касается Булгакова или Солженицына, которым либеральной пропагандой поручено представлять советскую литературу, Леонов выше их по меньшей мере
на целую голову. Однако 100-летие Солженицына празднуется с общероссийским размахом и с установлением памятников, а леоновские юбилеи — будь то столетие или 120-летие — сопровождает молчание. Но это молчание не служит мерилом значимости писателя. В современной России оно почётнее всех фальшивых фанфар.
Отступление первое. Обретение Леонова
Прежде чем начать разговор о жизни и творчестве писателя, позволю небольшое личное отступление. Выше уже говорилось о непростом пути современного человека к литературе (под этим словом, конечно, понимается настоящая литература, а не низкопробные поделки). Автору, родившемуся в 1980-е годы, также пришлось идти к Леонову окольными путями, от одной вешки к другой, пока мир этого писателя не распахнулся в своей громадной и захватывающей дух шири. Первой такой вешкой стал 6-й том Литературной энциклопедии 1932 года, неведомо как (спросить, к сожалению, уже не у кого) оказавшийся в дедушкиной библиотеке. Перелистывая её, я обратил внимание на статью о Леонове. Что именно зацепило десяти- или одиннадцатилетнего подростка, точно вспомнить трудно. Может, выразительный портрет писателя. А, может, и сам объём статьи, который при молодости её героя — а Леонову тогда было всего 33 года! — немногим меньше статьи о М.Ю.Лермонтове и вдвое больше статьи о Н.С.Лескове, помещённых в том же томе. Бросается в глаза и иллюстрация — изображение обложки «Полного собрания сочинений» Леонова 1930 года. С возрастом писателя подобные иллюстрации, согласитесь, вяжутся туго!
Впечатление усилило пришедшее примерно в то же время сообщение
о смерти Леонова, смутно запомнившееся реакцией родителей: «А мы думали, его давно уже нет в живых!». После этого была и попытка (признаюсь: неудачная) осилить «Русский лес», и пробравшая буквально до дрожи статья «Утро победы», опубликованная «Правдой» 30 апреля 1945 года. Этот номер подарил коллега, знавший о моём увлечении советским прошлым.
Постепенно возраставший интерес в конце концов заставил меня без раздумий протянуть руку к полке букинистического магазина с репринтным изданием романа Леонова «Барсуки». Буквально проглоченная, книга не только не утолила, а многократно усилила читательскую жажду. Вот тут-то произошло то, что могло раз и навсегда положить конец едва начавшемуся «роману» с леоновским творчеством. Поиски информации привели к работам современных критиков, среди которых небезызвестный Дмитрий Быков.
Отступление второе. Яд от Быкова
«Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Человек, ненавидящий социализм, призывающий реабилитировать генерала Власова и сокрушающийся о недальновидности Гитлера, который своим антисемитизмом, дескать, оттолкнул от себя русскую интеллигенцию, объявлен в современной России главным специалистом по советской литературе! Увы, это не гипербола. В то время как настоящие литературоведы живут на полунищенские зарплаты и, если публикуются, то в малотиражных нынче научных журналах, Быков демонстрирует прямо-таки феноменальную плодовитость. За последние годы им изданы биографии Пастернака, Маяковского, Горького и целых два сборника с претенциозными заголовками «Советская литература. Краткий курс» и «Советская литература. Расширенный курс». Добавьте к этому беспрестанное мельтешение Быкова по телеканалам и печатным изданиям (причём всё чаще именно в роли главного эксперта по советской литературе!) — и картина будет полной.
Главная опасность в том, что Быков, по сути, создаёт новый взгляд на словесность прошлого века. Крайне вольно обходясь с фактами и охотно подменяя их сальными, сомнительного происхождения байками, он сознательно лишает советских писателей причитающегося им по праву таланта и простого человеческого уважения. Нет, формально Быков отдаёт должное и Горькому, и Маяковскому, и тому же Леонову, называя их великими мастерами. Но с восхвалениями чередуются мысли-вирусы, заряженные на сомнение и даже отвращение
к личностям писателей. При желании их несложно опровергнуть, и вдумчивый читатель обязательно обойдёт стороной эти зловонные пятна. Но Быков, вероятно, руководствуется словами дона Базиля из «Севильского цирюльника»:
«Я видел честнейших людей, которых клевета почти уничтожила. Поверьте, что нет такой пошлой сплетни, нет такой пакости, нет такой нелепой выдумки,
на которую в большом городе не набросились бы бездельники, если только
за это приняться с умом, а ведь у нас здесь по этой части такие есть ловкачи!».
Характерный пример — описание смерти старшего сына Горького — Максима. По утверждению Быкова, когда тот умирал на втором этаже дачи в Горках
от крупозного воспаления лёгких, отец «сидел внизу… и беседовал со Сперанским [советский учёный-медик А.Н.Сперанский] об институте экспериментальной медицины, о том, что надо сделать для его поддержки, о проблеме бессмертия. О Максиме не говорили. Когда в три часа ночи к Горькому спустились сказать, что Максим умер, он побарабанил пальцами по столу, сказал: „Это уже не тема„, — и продолжил говорить о бессмертии».
Как обычно у Быкова, ссылка на какой-нибудь документ отсутствует. Однако обнаружить первоисточник не составляет большого труда. Это — воспоминания самого Сперанского. Действительно, в них приводятся указанные слова Горького. Вот только сказаны они были спустя несколько часов после смерти сына и не Сперанскому, а лечившим Максима врачам. Сухость высказывания, скорее всего, вызвали сомнения Горького (и он в этом был не одинок) в правильности назначенной терапии.
При этом Сперанский постоянно подчёркивает глубокие — хоть и не проявляемые бурно — страдания Горького. А любовь писателя к сыну общеизвестна. Дочери Максима — Дарья и Марфа — вспоминали, как после смерти их отца дедушка набросил его пальто себе на плечи и не расставался с ним до конца жизни. «Последняя встреча с дедушкой была связана как раз с тем, чтобы мы
не забывали папу, самого близкого дедушке человека, — говорили они. — После смерти Максима главной любовью Горького были мы, две маленькие девочки, жившие с ним в Горках, на даче. Смерть Максима фактически его сломила. Он сидел в кресле перед камином, мы с Дарьей присаживались рядышком, и весь разговор сводился к отцу».
Данный пример хорошо показывает манеру обращения Быкова с литературным прошлым. Единственное, что заслуживает его одобрение — случаи
(нередко взятые с потолка) конфликтов писателей с Советской властью. Вот тут-то его страсть к обличениям вспыхивает с поистине ветхозаветной пылкостью. На советский строй, и особенно сталинский его период, обрушиваются все мыслимые и немыслимые громы и молнии. Быкову не хватает «самой малости» — элементарной доказательной базы — чтобы эти обличения превратились в суровый приговор прошлому. Но, как известно, подобными пустяками критик и его единомышленники легко пренебрегают.
Среди жертв этого безжалостного и, самое главное, необъективного препарирования советской литературы оказался Леонид Леонов. Начать нужно с того, что Быков просто не любит этого писателя, в чём откровенно признаётся: «скажем сразу: Леонов был, вероятно, плохим человеком» (статья «Леонид Леонов как певец Апокалипсиса»). Для объяснения своего категоричного вердикта автор приводит не менее скользкие анекдоты, как в случае с Горьким. А это автоматически напитывает ядом все последующие утверждения. Например, такие: «Весь корпус леоновских текстов… производит впечатление антивещества, сверхтяжёлого и чужеродного: совершенно нерусская, вообще нечеловеческая конструкция». Или: «Это был писатель редкого, небывалого ещё в России типа — писатель без идеологии, с одной огромной и трагической дырой
в душе, с твёрдым осознанием недостаточности человека как такового, непреодолимости его родового проклятия».
Чтобы хоть как-то обосновать свои слова, Быков безапелляционно заявляет, что собственные мысли Леонов вкладывал в уста отрицательных персонажей. Уловка дьявольски хитрая. Она способна запятнать любого писателя, вывернув наизнанку всё его творчество, а заодно и личность. Отождестви Шекспира
с Яго, Пушкина — с Сальери, Салтыкова-Щедрина — с Иудушкой Головлёвым, Достоевского — со Смердяковым, и — мели Емеля! — можно поставить с ног
на голову всю мировую культуру, поменяв местами чёрное и белое, добро и зло. Заронить это ядовитое семя много ума не надо. Куда труднее искоренить его всходы, для чего нужно не только хорошо знать творчество писателя, но и относиться к нему с уважением. Без этого популяризация — если только можно назвать этим словом быковские и аналогичные им опусы — становится видом забвения. Причём даже более глубоким, чем обычное…
Когда режут по живому
«Теория» Быкова, как ни печально это признавать, дала глубокие корни. Своё влияние она оказала и на такого, безусловно, талантливого современного писателя, как Захар Прилепин. Несколько лет назад в серии ЖЗЛ вышла его книга, посвящённая Леонову. Нужно признать, что Прилепин проделал огромную работу, возвращая фактически забытого мастера широкому кругу читателей. Многие из мифов — и родившихся ещё в советское время, и сфабрикованных современными судиями от литературы — нашли в этой книге подробное и аргументированное разоблачение.
Однако полностью сбросить шлейф псевдо-истин автору не удалось. Что, возможно, объяснимо чувством признательности, ведь именно Быков, по словам Прилепина, подсказал ему идею жизнеописания Леонова. Поэтому
те идеи-вирусы, что с такой настойчивостью навязывает нам Быков, нашли продолжение в этой книге. Среди них и «презрение писателя к человеку как таковому», и его «глубинный антисоветизм». Заразившись ими, Прилепин стал отбирать для их подтверждения факты биографии Леонова и под определённым углом подавать его творчество. Что неизбежно породило новые мифы.
Самой большой ошибкой биографа стало стремление угодить либеральной публике. Для этого отношение Леонова к Советской власти преподносится как скептическое и даже враждебное — за исключением очень короткого периода «очарования» в начале 1930-х годов. А сталинская эпоха изображается Прилепиным как настоящий кромешный ад. «Мясорубка продолжается», — так названа одна из подглав, где живописуются «кровавый абсурд чисток», «нечеловеческие, иезуитские методы ведения фальсифицированных следствий» и «прочие жуткие признаки эпохи» (всё это — цитаты Прилепина). Но и повседневная жизнь «несчастных» граждан, по Прилепину, была не лучше: «…атмосфера осклизлой мерзости наступившего времени со всеми его пакостными приметами — от неустанного доносительства до нового социального расслоения и разделения совграждан на „чистых„и „нечистых„. Таким оборотам позавидовал бы каждый записной антисоветчик — от поношенного Сванидзе до восходящей звезды Дудя!
Что двигало автором, непонятно. Попытка пробудить интерес либеральной кучки к писателю? Но «своим» для этой публики Леонов никогда не станет. Прежде всего, из-за своего — на этот раз действительно глубинного! — неприятия лицемерия, торгашества и мещанства. А вот широкие читательские массы подобные моменты могут отвратить от Леонова и его книг раз и навсегда.
Беспощадная вивисекция леоновского творчества продолжилась в вышедшем в 2013 году собрании его сочинений. Составителем шеститомника стал всё тот же Захар Прилепин. Наследие писателя подвергнуто им строгому отбору. В частности, из собрания выброшен «Русский лес» — один из самых известных и, не побоимся сказать, лучших романов Леонова, а также пьесы и повесть о войне «Взятие Великошумска». Составитель не скрывает мотивов своего жестокого приговора. «Русский лес» он называет «непроходимо советским, очень искусственным и тяжёлым», пьесы — «ходульными и просто ужасающими»,
а «Взятие Великошумска» — «просто советской повестью». Что, видимо, в глазах Прилепина является серьёзным преступлением. Таким образом, составитель отсёк все произведения Леонова, посвящённые Великой Отечественной войне. А это трудно объяснить недосмотром. Это сознательно совершённая,
а потому непростительная ошибка. Зато собрание сочинений сопровождает целых три сопроводительных статьи — самого составителя, упомянутого Дмитрия Быкова и журналиста либеральных взглядов Олега Кашина, также записавшегося в знатоки леоновского творчества...
Признаюсь: после прочтения статей Быкова и книги Прилепина я сам испытал немалое смущение. Простор леоновского творческого космоса только открывался передо мной, и дать справедливую оценку их суждениям было сложно. Но острые противоречия, в которые эти идеи вошли с моими собственными впечатлениями, были настолько глубокими, а нотки в отдельных пассажах современных критиков — настолько фальшивыми, что я принял решение разобраться во всём сам. Единственным средством стало чтение Леонова — от его автобиографических статей
до романов. Поэтому теперь, после, может быть, необоснованно затянувшего вступления, перейдём к самому писателю — его жизни и его творчеству.
Родом из Зарядья
Леонид Леонов родился 19 (по новому стилю, 31) мая 1899 года в Москве. Его семья принадлежала к довольно распространённой на рубеже веков социальной группе. От малоземелья и нужды пореформенные крестьяне стекались в города, где работали кто извозчиком, кто чернорабочим, а кто, опустившись, пополнял ночлежки Хитровок и Сенных площадей. Деду писателя — Леону Леонову — повезло больше. Из своего родного Тарусского уезда Калужской губернии он перебрался в Москву, в Зарядье, где завёл бакалейную лавку. Своего сына Максима он тоже хотел приучить к торговому делу, но тому приглянулась иная стезя. С детства любознательный и любивший чтение, он рано начал писать стихи в стиле популярного тогда поэта-самоучки Ивана Сурикова («Что стоишь, качаясь, тонкая рябина» — самое известное суриковское стихотворение, переложенное на музыку). В 15 лет в печати вышли первые его стихи,
а вскоре Максим Леонов, или Максим Горемыка, как чаще всего подписывался он под своими произведениями, сошёлся с другими поэтами из народа. Вместе они организовали своего рода литературный кружок, который регулярно собирался для бесед и даже выпускал поэтические сборники.
В семье страсть юноши не одобряли. Много позже его сын Леонид писал:
«В Зарядье литературы, можно сказать, не ценили, и свой сюртук, например,
в котором отправлялся на литературные выступления, поэт Максим прятал
в дворницкой. Собираясь в кружок, тайком переодевался у дворника, а на рассвете, возвращаясь через окно, чтобы не будить родителя, в той же дворницкой облачался в косоворотку и поддёвку для приобретения прежнего зарядьевского обличья». Собрания молодых поэтов между тем заинтересовали полицию.
В 1892 году Максима Леонова подвергают административной высылке в Архангельск, где он провёл почти полтора года.
Напуганная родня пытается «остепенить» поэта. Первый брак оказался неудачным. Во втором, с дочерью такого же зарядьевского мелкого купца — Марией Петровой — родились пятеро детей. Среди них Леонид Леонов, будущий писатель. Но ни пристальное внимание властей, ни семейные хлопоты не успокоили Максима Леонова. «Певец природы, любви и грусти» (так характеризовали его в предисловии к одному из поэтических сборников) всё чаще обращается к социальным мотивам. Особенно ярко это проявилось после начала Первой русской революции. Леонов сближается с большевиками, выступает на похоронах убитого руководителя московской организации РСДРП Николая Баумана. Осенью 1905 года поэт вместе с товарищами организует издательство «Искры», печатающее политические статьи и стихотворные сборники революционного содержания (например, «Под красным знаменем», 1906).
С наступлением реакции издательство было закрыто, а для Максима Леонова началась череда бесконечных арестов и допросов. За издание литературы «крайнего содержания» он в общей сложности задерживался около двадцати раз, а в конце концов оказался в Таганской тюрьме, где провёл два года. После этого Максим Леонов был выслан в Архангельск и прожил там все оставшиеся годы (умер он в 1929 году).
Его семья в конце концов распалась, а дети оказались на попечении матери и двух дедов. Беды стучались в их двери одна за другой. В течение нескольких лет от болезней скончались трое из пяти детей. Неудивительно, что Леонид был окружён особой заботой домочадцев, стремившихся дать мальчику хорошее образование. В десять лет он заканчивает городское училище и поступает в 3-ю московскую гимназию.
Впечатления детства, связанные с отцом, обоими дедами и московским Зарядьем, нашли подробное отражение в первом романе писателя «Барсуки», а также в нескольких публицистических статьях. Светлыми эти воспоминания назвать сложно. «Когда-то она жила своей пёстрой и дикарской жизнью, эта зарядьевская каменная труха. Что-то копошилось в этих изогнутых и узких норах, занесённых на планы под именем переулков Ершовых, Знаменских, Кривых и Мытных, — писал он в статье «Падение Зарядья». — И, может быть, отсюда расползалась
во все концы Москвы чудацкая затейливая цвель гнилого и безрадостного времени… В тесных каморках там проживали со своими семьями злые и чахоточные мастера мелких и неприметных ремёсел. Жизнь у них была лютая и скорее заслуживала наименования жития. Искусство выжимания пота без одновременной поломки костей стояло очень высоко в Зарядье. И потому трудно было осудить этих задиристых, ожелтевших и очумелых от страшного труда, по двенадцати часов
в сутки, людей за их манеру проводить время на этой планете. Как они лупили своих жён или учили родимых деток, памятно, наверно, многим зарядьевским старожилам. Единственной их утехой было выпить в праздничный день „для забвения жизни”, — формула эта запомнилась мне с самой начальной поры моего милого детства».
Леонид жадно вбирает в себя приметы окружающего мира. Чёткие выводы делать он пока ещё не может, но именно оттуда, из детства, родом его ненависть к мещанству, забитости и всем другим язвам, так выпукло представленных в этом уголке старой Москвы. Будучи впечатлительным и развитым подростком, он подмечает все противоречия действительности и те трещинки, которые всё гуще покрывали и Зарядье, и всю Россию.
Вместе с тем писатель через всю жизнь пронёс тёплые воспоминания
о старших родственниках, особенно о деде со стороны отца — Леоне Леонове, которому он длинными зимними вечерами читал жития святых и другие духовные книги, и от которого услышал немало преданий «старины глубокой». Может быть, поэтому все важнейшие произведения писателя глубоко историчны, а характеристика главных героев сопровождается подробным экскурсом в их прошлое — вплоть до раннего детства, и даже дальше — в предыдущие поколения. Тем самым Леонов подчёркивает недопустимость — да и невозможность! — замалчивания истории, автоматического отказа от неё. Каким бы мрачным ни был вчерашний день, его не перечеркнуть и не отменить — он продолжает жить
в дне сегодняшнем, который ведь не взялся из ниоткуда! А чтобы старые призраки не отравляли жизнь, чтобы прошлое не тянуло постоянно назад, нужно это прошлое тщательно изучить и понять. Это касается и отдельной личности, и целого общества. Такой анализ проводят герои «Вора», «Соти», «Дороги
на Океан», «Русского леса». Таким анализом в отношении самого себя и своей страны, очевидно, никогда не прекращал заниматься и сам Леонов.
Грозовые годы
Пока же он учится — причём весьма успешно! — в гимназии, увлекается живописью, театром и цирком. А ещё — пробует перо в стихах и рассказах. Некоторые из своих первых литературных опытов Леонид отправлял в Архангельск. Несмотря на расставание родителей, связей с отцом он не порывал и даже несколько раз приезжал к нему на каникулах. Максим Леонович с жаром поддерживает начинания сына и печатает его стихотворения в выпускаемой им газете «Северное утро». Впервые это произошло в 1915 году, а вскоре там же появляются его театральные рецензии, заметки «на злобу дня». Сам Леонов впоследствии весьма критически оценивал эти сочинения, сравнивая их с «детски меняющимся голосом, первой пробой голоса, настройкой лиры», и не включал их ни в один «взрослый» сборник. И всё-таки уже в этих, незрелых, произведениях просматриваются будущие мотивы — напряжённое чувство истории, отрицание ложного обывательского покоя.
После окончания гимназии, летом 1918 года, Леонов вновь едет к отцу —
в относительно спокойный тогда Архангельск. Он продолжает активно публиковаться, знакомится с этнографом и художником Степаном Писаховым. Встречи с повидавшим мир человеком, влюблённым в Русский Север и хорошо знавшим местный фольклор, оказали большое влияние на Леонида. То же самое можно сказать о завязавшемся приятельстве с писателем Борисом Шергиным, талантливо перерабатывавшим поморские былины. Элементы сказа прочно вошли в леоновское творчество — как и характерные «северные» обороты речи.
С Архангельском связан и эпизод, который с подачи современных критиков возводится чуть ли не в ранг определяющего в дальнейшей судьбе Леонова. Речь идёт о его службе в белой армии. А дело было так. 2 августа 1918 года
в Архангельск вошли англо-американские войска. В тот же день было образовано «Верховное управление Северной области» — марионеточное кадетско-эсеровское правительство под руководством Н.В.Чайковского. Одним из первых его решений был закон о всеобщей воинской повинности. В соответствии с ним Леонид Леонов призывается на службу и отправляется сначала на учёбу в артиллерийскую школу, а затем в интендантский отдел Северного фронта. Побывал ли он в действующей армии, сказать трудно. Родные Леонова говорят, что свалившая его «испанка» позволила избежать этого. Прилепин заявляет, что в начале 1920 года Леонов всё-таки побывал на фронте. Так или иначе, разложившиеся части белых быстро бежали под напором Красной Армии, и уже
в феврале 1920 года Архангельск стал советским.
По утверждению Прилепина, Леонов всю жизнь боялся разоблачения и чуть ли не самолично уничтожал свидетельства своих «белогвардейских похождений». «Леонов прожил целую жизнь, чувствуя затылком мрачное дыхание своего прошлого, которое в любое мгновение могло настигнуть и спихнуть в небытие, — пишет он. — Не в силах избавиться от этого непреходящего страха, Леонов начинает жуткую, почти самоубийственную игру со смертью: из романа
в роман у него появляется один и тот же герой — бывший белый офицер, живущий в Стране Советов: злой, сильный, упрямый волк, иногда обряжающийся
в одежды смиренья и послушания».
Чувства и мысли Леонова, касающиеся его архангельского периода жизни, узнать уже не представляется возможным. Да, отец его поначалу испытывал симпатии к местным эсерам и меньшевикам, что видно из выходивших под его авторством заметок. Про Леонида сказать то же самое нельзя, хотя, учитывая молодость будущего писателя и стремительность исторических свершений, ничего зазорного в подобных колебаниях не было. Очень многие собратья Леонова по перу переживали схожие искания и долго не знали, у какого из берегов бросить якорь.
Это лишает убедительности выводы Прилепина. Говоря, как о самоочевидном и не требующем доказательств факте, что заподозренный в сотрудничестве с белым движением человек был обречён в Советской стране на гибель, он совершает грубый подлог. Лучшее доказательство тому — судьбы известных людей. Сотрудничество с белыми в годы Гражданской войны не помешало им прожить нормальную жизнь и получить достойное вознаграждение за свои таланты. Например, известнейший советский поэт и классик детской литературы С.Я.Маршак в 1918 году покинул территорию под контролем Советской власти и перебрался в Екатеринодар (ныне Краснодар). Там он сотрудничал в газете «Утро Юга», публикуя, помимо стихов, антибольшевистские фельетоны.
И это — не единичный пример. Писатель В.Г.Ян, известный своей трилогией о завоевании Руси монголо-татарами, в 1918—19 годах работал в походной типографии колчаковской армии и был редактором фронтовой газеты «Вперёд». В этой же газете печатался будущий советский писатель Всеволод Иванов. Его коллега Н.Н.Асеев сотрудничал с газетами, издававшимися «правительством» атамана Семёнова на Дальнем Востоке. Никто из них не подвергался впоследствии ни арестам, ни заключению. Более того, Асеев, Ян и Маршак стали лауреатами Сталинской премии, причём последний — четырёхкратным! Могут возразить, что журналистская работа — это не участие в боевых действиях.
В таком случае можно вспомнить жизненный путь драматурга и сценариста Евгения Шварца, воевавшего в составе Добровольческой армии и участвовавшего в «Ледяном походе» генерала Корнилова. По некоторым данным, успел повоевать у Деникина и Валентин Катаев.
Если же не ограничивать обзор писателями, то напрашивается ещё одна яркая иллюстрация. Будущий выдающийся советский военачальник и Маршал Советского Союза Леонид Говоров был мобилизован в войска Колчака и служил больше года в батарее 8-й Камской стрелковой дивизии, пока, дезертировав, не присоединился к Красной Армии.
Таким образом, кровожадность Советской власти не надо преувеличивать. Она давала возможность переосмыслить свой прежний путь и начать новую жизнь. Этим воспользовался Леонид Леонов, который не бежал за границу,
а вступил в РККА и принял участие в боях на Южном фронте. Там же он редактировал военные газеты, печатая репортажи, фельетоны и стихи под псевдонимом Максим Лаптев. Даже если и были у Леонова некоторые иллюзии, связанные с белым движением, он быстро понял губительность этой антинациональной, исторически обречённой авантюры. В одном из ранних рассказов — «Белая ночь» — он писал, явно используя свои архангельские впечатления: «Значение Няндорска возрастало по мере приближения фронта: белые отступали, открывая проход к морю. Англичане сердились, грозились уйти, но не уставали давать мундиры, галеты, какие-то нелепые пушки, почти единорогов, оставшихся от бурской войны, а на духовную потребу — ром. Взамен они требовали безусловного подчинения, прославленной русской храбрости и, наконец, известное количество леса с местных лесопилок».
Путь в литературу
В Москву Леонов вернулся только в 1921 году, после трёхлетних странствий — опасных, но ставших настоящей школой жизни. В столице он трудится в слесарной мастерской, затем устраивается на более привычную работу в газету «Красный воин», живёт в доме у художника В.Д.Фалилеева и продолжает писать. В 1922 году в журнале «Шиповник» вышел рассказ «Бурыга», которым впоследствии начинались все собрания сочинений Леонова.
Успех первых рассказов был поистине феноменальным. Послушать автора, читавшего свои произведения, собиралось всё больше людей. «Читал Леонид Максимович хорошо, очень своеобразно, чрезвычайно быстро, иногда как бы выкрикивая отдельные слова. Молодой гибкий голос и приятное, выразительное лицо содействовали, в свою очередь, общему впечатлению», — вспоминал М.В.Сабашников, чей дом можно было назвать настоящим культурным центром советской столицы. Для Леонова встреча с этим человеком — известным дореволюционным и советским книгоиздателем — стала судьбоносной. И не только потому, что в издательстве братьев Сабашниковых вышли первые его книги.
В 1923 году М.В.Сабашников становится тестем молодого писателя. С Татьяной Михайловной Леонов прожил 56 лет. В этом долгом счастливом браке у них родились две дочери — Наталия и Елена.
Раннее творчество Леонова обширно и многогранно — как по сюжетам, так и по стилю. Он обращается к темам народного фольклора и поморского сказа («Бурыга», «Гибель Егорушки»), ветхозаветной мифологии («Уход Хама»), истории монгольской империи («Туатамур») и средневековой Персии («Халиль»), каждый раз используя оригинальный язык и достигая невероятного проникновения в разные эпохи и культуры. Писатель словно ищет свой путь, пробует перо. Критика восприняла эти поиски по-разному. Леонова обвиняли в увлечении мистическими настроениями, излишней тяге к стилизации и экзотическим темам. Но крупные художники сразу разглядели в писателе высокое мастерство, самобытность и, главное, громадный потенциал. «Есть и другой сказ, высокий, лирический, — писал Юрий Тынянов. — И он делает ощутительным слово, и
он адресован к читателю… Лирический сказовик — Леонов, молодой писатель
с очень свежим языком… Теперь сам стих необычайно усложняется, сам бьётся в тупике; и прозе и стиху предстоит, по всей вероятности, разграничиться окончательно, — но на склоне течений появляются иногда неожиданно яркие вещи, — может быть, Леонов будет таким „бабьим летом” стихотворной прозы».
Тогда же Леонова замечает Горький. Пока — на расстоянии (автор «Песни
о Буревестнике» жил в Италии), которое, впрочем, не помешало ему выражать своё восхищение в письмах. «…Талантливый Вы художник, — писал Горький, — берегите себя и не верьте никому, кроме себя, а особенно людям, которые пишут предисловия».
Вместе с тем неверно рассматривать первые рассказы как отвлечённую
от реальной жизни стилизацию. За историческими сюжетами проглядывает напряжение эпохи, с её вихрями и тектоническими сдвигами. В своём выступлении на Первом съезде советских писателей в 1934 году Леонов — тогда уже признанный классик советской литературы — оглянулся назад и дал такую оценку своим первым рассказам: «Нас привлекала тогда необычность материала, юношеское наше воображение поражали и пленяли иногда грозные, иногда бесформенные, но всегда величественные нагромождения извергнутой лавы и могучее клубление сил, запертых в глубине жизни. Эта необычность материала зачастую прикрывала нашу литературную беспомощность. Мы все проходили тогда ещё только через орнаментальную прозу, вычурную словесную вязь, как ребята радуясь дару повторять громовые слова взрослых. Мнилось порою, любой кусок жизни этого периода годился бы в многопудовый роман, потому что он кровоточил, пульсировал и звенел в руках».
«Один сплошной Унтиловск»
Этот самокритичный анализ не отменяет важности начального периода писательской деятельности Леонов. В его ранних рассказах и повестях впервые появляется главная, на наш взгляд, ось, вокруг которой вращается всё последующее творчество писателя — отрицание мещанства, доходящее до прямо-таки осязаемой ненависти ко всему косному, ограниченному, отжившему. Леонов ещё достаточно смутно понимает законы исторического развития, сделавшие неизбежной социалистическую революцию, он далёк от полного осознания классовых противоречий во всей их сложности. Но он глубоко убеждён в необходимости глубоких перемен, в том спасительном революционном шторме, который, словами романиста Вальтера Скотта, наносит большой урон, но сметает застойные и нездоровые пары и возвращает в будущем здоровье и плодовитость.
Однако наступление нэпа, реставрация товарно-денежных отношений и возвращение частного капитала поколебали уверенность Леонова в возможности достижения этой цели. В типичном нэпмане с его стяжательством, изворотливостью и непроходимой пошлостью он видит могильщика перемен, опасается, что собственническая стихия уничтожит ростки нового мира, как заморозки губят ранние всходы. «Считаю мещанство самой злой и не преодолённой покуда опасностью. Болезнь сидит глубоко, лечить её трудно. Ветхозаветный мещанин прошлого ничто в сравнении со своим пореволюционным потомком. Нынешняя отрасль его, прокалённая огнем революции, хитра, предприимчива и мстительна. Аппетиты его велики, сожрать он может много… Лишённый творческого духа, он страшится стихийного творческого подъёма, охватившего страну», — писал Леонов в статье «О мещанстве».
Революция пошатнула старое общество, смутила и напугала его обитателей. Но инерция этого разлагающегося мира со всеми его язвами и грехами настолько сильна, что тянет назад, в своё болото, всех и всё. В «Петушихинском проломе» и «Необыкновенных рассказах о мужиках» изображена русская деревня, сохраняющая дикие, едва ли не первобытные, нравы и суеверия. Вот плотника — героя рассказа «Приключение с Иваном» — односельчане убивают за конокрадство. Он ни в чём не повинен, преступление совершил кузнец Зотов, но, как решает сход, «кузнец у нас один… а плотников четверо». А вот слепнущая крестьянка Мавра («Тёмная вода») обкрадывает молодую девушку-фельдшера, которая пытается ей помочь…
Отупляющая косность, впрочем, характерна не только для деревни. Леонов изображает городского «мелкого человека», закрывшегося в своей скорлупе и пугающегося любого движения. Причём это не обязательно незаметный обыватель — какой-нибудь конторщик или торговец. Таким «мелким человеком» может быть и известный учёный, как Фёдор Лихарев («Конец мелкого человека»). Он и ему подобные не хотят изменений, оправдываясь ложно толкуемыми этическими соображениями: «За благородство, за правду кровью платить надо, а кровь — она дороже всяких правд стоит». В действительности эти люди дрожат за собственное благополучие. Оно — пусть и убогое, пусть и полубессмысленное —
для них дороже всех планов справедливого переустройства мира. Какой смысл бороться за счастье для будущих поколений, если меня в это время уже не будет? Так рассуждает эта среда, которую Леонов раз за разом сравнивает с болотом: „пузыри, на вековой тине пузыри, и вонь внутри”. Здание нового мира они готовы растащить по кирпичику „на хозяйственные нужды”, ведь „человечина — штука земная, зачем с неё разных там благородных штук спрашивать!”»
Даже люди, пытающиеся идти наперекор, несут на себе клеймо старого мира и неспособны сдвинуть его неподъёмный камень. Потому что этот камень лежит, в том числе, на их душах. Таков герой «Петушихинского пролома» — бывший конокрад Талаган, ставший большевиком.
В наиболее полной форме волнующая Леонова тема отразилась в пьесе «Унтиловск», впервые поставленной на сцене МХАТа в феврале 1928 года. Она была создана на основе одноимённой повести, написанной намного раньше, но так
и не опубликованной. Действие происходит в выдуманном городе Унтиловск.
Но Унтиловск более чем реален. Это всё то же всепоглощающее болото мещанства, которое уверенно в своей непобедимости и вечности. Автор выводит целую галерею обывательских типов, среди которых опустившийся бывший дворянин Манюкин, поп Иона со своим семейством, кооператор Редкозубов, «земноводная личность» Аполлос и, главное, крысолов Черваков, претендующий на роль унтиловского философа. Он рассказывает о некоем «учёном дуралее», который изобрёл машину времени и решил сбежать от революции в будущее — «годиков на двадцать вперёд». «Но в машинке сломался рычажок, и бесколёсный вагон перемахнул на миллион лет вперёд, через века, людские жизни, сотни революций,
из двадцатого века в век десятитысячный, — говорит Черваков. — И когда выглянул дуралей из окошка, то земли-то и не нашёл, и солнца не нашёл… Голый, потухший самоголейший пшик… великая дырка… Один сплошной Унтиловск».
Этот яд душевной пустоты и пошлости отравляет даже сильные личности, такие, как Виктор Буслов, которого сам Леонов сравнивал с некогда могучим,
но вмёрзшим в унтиловскую почву мамонтом. У него нет сил вырваться из окружающей трясины, но он способен различить солнечный луч, способный растопить вековые льды. Таким лучом для Буслова стал рисунок талантливого мальчика Васи. «Вот Васятка растёт, греметь будет, — говорит он. — Для него наша жизнь только глупая история. А мы вот здесь… носим дым её и гарь. В счастливое время родился ты, Васятка, шагай!..». В конце пьесы Буслов прогоняет Червакова, произнеся многозначительную фразу: «Ничего, весна всегда с метелями».
Первый роман
О том, что весна всё-таки возможна, и Унтиловску не вечно стоять на земле, Леонов ощущает всё сильнее. Это выразилось в его первом романе «Барсуки», опубликованном отдельной книгой в 1925 году. Здесь нам снова приходится столкнуться с оценкой, данной Захаром Прилепиным. В своей книге он утверждает, что «Барсуки» прямо-таки пропитаны антисоветским пафосом, и удивляется, как это цензура пропустила роман в печать. «Легко трактовать этот роман как по сути антисоветский. Сегодняшнее прочтение его вообще оставляет в недоумении: как же, честная и злая, эта вещь входила в святцы советской литературы — что она там делала вообще?» — вопрошает Прилепин.
Для такого ультимативного заявления необходим набор аргументов. Есть ли они у Прилепина? Формально — да, только вот неоспоримыми их назвать никак нельзя. Критик берёт какую-то фразу или мысль — и обнаруживает в ней скрытый антисоветский подтекст, якобы заложенный Леоновым. Вот один из примеров: большевик Павел (он же Антон), с детства живший в городе и трудившийся на заводе, при возвращении в родные деревенские края принимает поганки за съедобные грибы. Прилепину этого достаточно, и он объявляет эпизод закамуфлированным идеологическим выпадом. «Вот тебе и переустройство мира! Вот тебе и строители его, лишённые всякого чувства природы и почвы!» — восклицает он, уверяя читателя, что то же самое хотел сказать о коммунистах Леонов.
Считать роман «стерильным» нельзя: критика в нём присутствует, причём открытая. Уполномоченный по хлебозаготовкам Половинкин изображён здесь отрицательным персонажем, а перекосы продразвёрстки без обиняков называются одной из причин крестьянского бунта. Но антисоветским произведением «Барсуки» не являются точно. Это широкая картина эпохи. А поскольку сама эпоха была сложной, бурливой и разноречивой, то и картина получилась яркой, многоплановой. Леонову ни к чему было «держать фигу в кармане» — он честно изобразил своё время, получив заслуженное признание со стороны читателей. И не только рядовых. «Это очень хорошая книга. Она глубоко волнует. Ни на одной из 300 её страниц я не заметил, не почувствовал той жалостной, красивенькой и лживой „выдумки”, с которой у нас издавна принято писать о деревне,
о мужиках», — писал Леонову Горький.
Вкратце — о содержании книги. Двух братьев — Павла и Семёна Рахлеевых — привозят из деревни в Москву, где они попадают в услужение к зарядьевскому купцу, владельцу бакалейной лавки Быхалову. Его, а равно и пейзажи этого купеческо-ремесленного московского района, Леонов писал по собственной памяти. Она сохранила и суровые образы дедов вместе с другими обитателями Зарядья, и даже запахи: «Обычные зарядские запахи боятся солнца, бегут глубже — в провалы проходных ворот, в купеческие укладки, во мраки костоломных лестниц, в гнилые рты». Писатель не наслаждается этой картинкой, а показывает Зарядье, как есть — местом, где обитают и нужда, и несправедливость.
Несладко живётся и братьям Рахлеевым, особенно Павлу, которого сразу невзлюбил хозяин. «Без детства, без обычных шалостей Пашка вступил
в жизнь, — пишет автор. — А жизнь поджидала его не медовым пирожком. У Быхалова с утра влезал он в дырявые валенцы, впрягался в санки и так, хромой и хмурый, возил по городу Быхаловскую кладь, без разбора времени, по мостовым и сугробам, в дождь и снег, лошадиным обычаем». В конце концов купец выгоняет Павла из дома за провинность — в ночь, с ожогами от уксусной кислоты, которую подросток пролил накануне.
Семён остаётся у Быхалова и, постепенно проникаясь купеческим духом, проходит «первый, второй и третий рубежи Зарядской жизни». Встреча братьев произошла только через несколько лет. Павел рассказывает о своей работе на заводе, и по мере разговора видна разделившая их пропасть. Если Семён полностью удовлетворён жизнью, собирается жениться и обзавестись собственным торговым делом, то Павел готов предъявить этому миру счёт — и за свои детские унижения, и за последующие скитания: «Книжки вот теперь читаю, — продолжал Павел полувраждебно. — Умные есть книжки про людей... Ах, да много всего накопилось...».
Начавшаяся Первая мировая война и последующие революционные вихри разрушают привычный быт Зарядья, как и всей страны. Действие романа переносится туда, откуда много лет назад братьев Рахлеевых отправили в Москву. Здесь,
на селе, зреет мятеж. Но недовольство крестьян вызвано не только продразвёрсткой и произволом тех, кто представляя Советскую власть, на деле просто «держат нос по ветру» и хотят сделать себе карьеру (тот же Половинкин). Оно подогревается спорами за собственность, которые веками копились в косной деревенской среде. Два села — Гусаки и Воры — много лет не смогли поделить Зинкин луг: «Возник спор, и спор родил злобу, а из злобы и увечья и смертные случаи вытекали, потому что и до кос неоднократно доходило дело». Это всё те же конвульсии старого мира, которые, как не раз показывал Леонов, отравляют проекты социального переустройства, тянут страну назад, в трясину прошлого.
Что же победит — старое или новое? В ранних рассказах и повестях писатель склоняется к первому, не веря в возможность Советской власти одолеть тёмную силу вчерашнего дня. В «Барсуках» намечается пересмотр авторского выбора. Жители Воров уходят в леса и начинают партизанскую войну, получая прозвище барсуков. Одним из их предводителей становится Семён Рахлеев. Но эта авантюра обречена — как и все попытки старого мира, не несущего в себе творческого, созидательного начала. «Бессилье родит злобу. Был бессилен Семён выпутаться из собственной тины», — говорит автор, снова прибегая
к образу болота. В этом споре победу одерживает Павел, ставший видным большевиком и известный под именем Антона. К нему, посланному для разгрома «барсуков», в конце концов приходит с повинной брат, оставшийся в одиночестве. «Сказать пришёл, что ты, пожалуй, и прав был», — признаётся Семён
в заключительной сцене романа.
«Страшен путь за перевал»
«Барсуки», выдвинувшие Леонида Леонова в первые ряды советских писателей и переведённые на несколько языков (предисловие к французскому изданию написал сам Горький), казалось, давали ему заслуженное право на отдых. Но Леонов полон творческой энергии, заставляющей его продолжать напряжённую работу. Осенью 1926 года он дописывает свой второй роман — «Вор». В писательской биографии Леонова ему суждено было стать одним из самых крупных (и по объёму, и по содержанию) и, вместе с тем, неоднозначных произведений. Сразу после появления «Вор» вызвал разные оценки — от восторженных до возмущённых. Ломать копья не перестали и последующие поколения критиков, так что отзвуки этих баталий достигли нынешнего столетия. Спорам немало поспособствовал сам Леонов, несколько раз (в 1950-е, 1980-е и 1990-е гг.) вносивший существенную правку в собственное детище.
Чтобы правильно оценить роман, необходимо окинуть взглядом период,
в который он создавался и которому посвящён. Это был конец эпохи нэпа, когда его изнанка («угар нэпа») предстала в наиболее выпуклом виде. Новая прослойка предпринимателей-нэпманов усиленно прожигала жизнь, словно компенсируя лишения и страх времён «военного коммунизма». В крупных городах сотнями работали рестораны и кабаре, в которых куплетисты исполняли пошленькие песни наподобие «Бубличков» или «Лимончиков». Пышным цветом расцвела уличная преступность, возродилась проституция, угрожающие размеры принимали взяточничество и прочие должностные преступления.
Кричащее социальное расслоение бросалось в глаза. «Пооткрывалось множество ресторанов: вот „Прага”, там „Эрмитаж”, дальше „Лиссабон”, „Бар”. Официанты были во фраках (я так и не понял, сшили ли фраки заново, или они сохранились в сундуках с дореволюционных времен). На каждом углу шумели пивные — с фокстротом, с русским хором, с цыганами, с балалайками, просто с мордобоем, — вспоминал Илья Эренбург в книге „Годы. Люди. Жизнь”. — Возле ресторанов стояли лихачи, поджидая загулявших, и, как в далёкие времена приговаривали: „Ваше сиятельство, подвезу! ”. Здесь же можно было увидеть нищенок, беспризорных; они жалобно тянули: „Копеечку”. Копеек не было: были миллионы („лимоны”)... В казино проигрывали за ночь несколько миллионов: барыши маклеров, спекулянтов или обыкновенных воров…».
«На каждом шагу можно встретить и шикарную женщину, и франта по-европейски. Откуда-то явились и жирные фигуры, и красные носы, — подтверждает автор «Дневника москвича» Никита Окунев. — Недавно разбирался процесс
о содержательницах домов терпимости. Значит, всё „восстановилось”. И стоило огород городить?».
Такие мысли посещали тогда многих. Окружающие явления входили в трагический диссонанс с тем, что провозгласила Октябрьская революция и что было начертано на знамёнах Красной Армии в годы Гражданской войны. Вынужденные уступки, на которые пошла Советская власть ради восстановления народного хозяйства, порождали опасения того, что отступление социализма необратимо. Многие вчерашние революционеры и бойцы считали нэп предательством, что нашло своё отражение в литературе тех лет. Так, один из героев повести Аркадия Гайдара «Всадники неприступных гор» (написанной почти одновременно с леоновским «Вором») «грезит девятнадцатым годом и из партии автоматически выбыл в двадцать втором». «…В качестве мотивировки к этому отходу написал хорошую поэму, полную скорби и боли за „погибающую„ революцию», — продолжает его характеристику писатель.
Судьба Дмитрия Векшина — главного героя «Вора» — намного трагичнее. Ещё в детстве бродячий фотограф-революционер открыл ему глаза на несправедливость окружающего мира. «Уже тогда складывалось у него путаное ощущенье, что мир — не просто игра голубых теней, что свет сплетается с тьмой, которая ему всегдашняя сообщница и соперница, а постоянное детище их — жизнь», — пишет Леонов.
С годами Векшин сам втягивается в революционную борьбу, а после начала Гражданской войны становится красным командиром. Однако, увлечённый внешней героикой движения, не может понять важность тяжёлых, но необходимых стране решений. Дмитрий приезжает в Москву, где «в витринах вспыхивали приманки нэпа, там и сям загорались цветные огни увеселений, то и дело в беседах с уха
на ухо слышался двусмысленный смешок. Исподлобья следили демобилизованные солдаты революции, как расцветали соблазнами магазинные окна, вчера ещё простреленные насквозь: теперь они будили голод, страх и недоуменья». Здесь-то и произошёл окончательный переворот в его сознании, когда жена нэпмана — «нарядная и пышная, как аравийская аврора» — ударила его перчаткой по руке. «Векшину показалось, что пуговка ударила по нерву в сочлененье пальца гораздо больней, чем та вражеская пуля на фронте», — отмечает автор.
Не вынеся унижения, Векшин попадает в преступный мир и становится вожаком преступной шайки. Здесь он пытается обрести утраченный, как ему кажется, романтизм борьбы. Леонов не скрывает (особенно это заметно в первой редакции романа) своего человеческого сочувствия к герою, но показывает гибельность такого выбора. Тем более что и сам Митька — отныне «король блатного мира» — всё глубже погрязает в той трясине, бороться с которой вроде бы так страстно хотел: «Действуя исключительно по линии частной торговли,
он ещё пытался уверить себя, что партизанит против ненавистного старого мира, тогда как в действительности новая профессия — её тайны, уловки, опасности — уже наложила отпечаток на всё его поведенье, и прежде всего успела отучить от труда». С ярким реализмом описывает Леонов смрадный мир притонов и окраинных кабаков, сравнивая его с дном глубокого безвыходного колодца: «свыкнувшись, люди и не заглядывали вверх».
Но и антипод Векшина — молодой купец Николай Заварихин, приехавший «покорять» нэповскую Москву, не является в глазах Леонова олицетворением здоровых и новых сил. Этот осколок старого мира одержим целью «сколотить капитал» любой ценой. В том числе нечистыми связями с воровским миром и презрением
к совести, которая, по убеждению Заварихина — «это кому что выгодно». Недаром в одном из эпизодов писатель называет его двойником Векшина. «Мы теперь сила, можем всё, — бубнил Заварихин... — Вот ничего не имею, а погоди, всё приберу. Врёшь, уж меня не согнуть тогда, можем и подождать… — Временами голос его начинал звучать с такой режущей силой, что приятели, затихнув, с опаской поднимали на него глаза, как на восходящее зубатое светило частного рынка».
Одинаково гиблый путь, который олицетворяют собой эти два героя, Леонов показал с помощью образного приёма. И Векшин, и Заварихин губят любящих
их женщин, разрушая возможность выхода на более светлую, созидательную дорогу. Вот только и сам писатель сомневается, есть ли вокруг силы, способные остановить «расхлестнувшуюся стихию нэпа», которая стремится «любыми средствами набрать спасительную историческую скорость». С горьким разочарованием вкладывает Леонов такие слова в уста одного из героев: «Уже теперь всё устанавливается по будничному ранжиру… Пошатнувшаяся было жизнь возвращается
в положенный для цивилизации порядок: чиновник скребёт пером, водопроводчик свинчивает и развинчивает, жена дипломата чистит ногти…». Зарядье, которое было фоном ранних произведений писателя, вроде как смято революционными ветрами. Но оно вновь возродилось в обличье Благуши — района тёмных переулков и тёмных личностей, которым плевать на планы социального переустройства. Советская власть, даёт понять Леонов, вряд ли осилит взятую на себя задачу, тем более что её нередко представляют такие люди, как управдом Чикилев — «человечек с подлецой». В общем, как отмечает один из персонажей романа, «за перевалом светит солнце, да страшен путь за перевал».
Совсем скоро — и это совпадёт по времени с окончанием нэпа — Леонов пересмотрит свою пессимистическую оценку. Пока же он оставляет читателя один
на один с невесёлыми раздумьями. Впрочем, это не снизило, а даже подчеркнуло художественную ценность романа, ставшего честным документом своего времени. «„Вор” — оригинально построенный роман, где люди даны хотя и в освещении Достоевского, но поразительно живо и в отношениях крайне сложных», — указывал Горький. Упоминание Ф.М.Достоевского здесь неслучайно. Роман действительно перекликается с произведениями классика русской литературы — кстати, любимого писателя Леонова. Но это не подражательство, а, скорее, следование совету Достоевского — «по молекулам разбирать человека». В «Воре» Леонов добился такого глубокого психологического анализа выведенных им героев, что
по праву смог занять место рядом с главными «человековедами» русской литературы — Достоевским или Львом Толстым.
Рождение неслыханного мира
Конец 1920-х годов стал переломным в истории СССР. Нэп был свёрнут,
уступив место мобилизационному развитию. Принимается первый пятилетний план, положивший начало индустриализации. Это была не просто замена одних экономических механизмов на другие — в движение пришла вся страна. Удушливая атмосфера нэпа разгоняется свежим ветром, состоящим из энтузиазма миллионов людей и убеждённости в достижении великих целей.
Леонид Леонов не мог остаться в стороне от этого весеннего обновления жизни. Его захватывает вихрь всеобщего подъёма. Прежде в некоторой степени кабинетный писатель, он начинает ездить по стране, становясь свидетелем судьбоносных подвижек. Одну из таких поездок Леонов совершил в Среднюю Азию. Под её впечатлением были написаны очерк «Поездка в Маргиан» и повесть «Саранча». Сравнительно небольшие, они имеют важное значение
для понимания тех изменений, которые происходили со взглядами писателя.
Казалось, грандиозные развалины древних городов и диковинные для московского жителя картины местной культуры должны были очаровать приезжего гостя. Однако за внешней оболочкой Леонов видит настоящую, тяжёлую, жизнь. Груз прошлого, как проклятие, тяготеет над местными жителями, давя их бедностью, неграмотностью, эпидемиями. Леонов описывает кишлак, где в дупле дерева над могилой праведника хранится «святая» вода. Ею принято умываться, так что трахома через больных паломников распространяется в народе. «А выдача несовершеннолетних девочек замуж? А то примечательное обстоятельство, что в 1924 году на всю республику, превосходящую размерами почти любую европейскую страну, приходилось всего сорок восемь врачей, из которых семь зубных… да и те сидели в городах?» — продолжает писатель в «Поездке в Маргиан». Его вывод однозначен: «Сегодня ещё во многом походит на вчера, но завтра вряд ли станет походить на сегодня — после завершения намеченных к постройке ирригационных сооружений, хлопковых плантаций и заводов, электростанций и шелкомотальных фабрик.
В борьбе за новое Туркмении прежде всего придётся скинуть с себя нарядные лохмотья среднеазиатской экзотики, под которыми прячутся нищета, высокая заболеваемость, невежество».
«Саранча» является художественным переложением этих мыслей. Тяжело,
но неотступно порывает с прошлым Советская Туркмения. Каждый день здесь — как битва за будущее. Превращению республики в цветущий край пытаются помешать налёты басмачей и пыльные бури. И те, и другие приходят из соседнего Афганистана, который является воплощением вчерашнего дня Средней Азии. Но вот появляется враг ещё более опасный: «теперь из недр Афгании, дор`огой ветров и басмачей, выступила саранча». Уничтожая посевы, оставляя за собой «ободранную, обугленную, загаженную землю», она грозит уничтожить многолетний труд людей, отбросить страну в прошлое. И уже, как первая его примета, поднимают голову муллы, твердящие, что нашествие саранчи — это божья кара.
Но на пути беды становятся инженерная мысль, ядохимикаты, а главное — люди, готовые пожертвовать всем, чтобы остановить нашествие. Вот что говорит главный герой повести Пётр Маронов, которому пришлось возглавить «оборону»
на самом сложном участке, и который закаляется в этой битве, преодолевая юношеские иллюзии и сомнения: «Я покажу тебе, Шмель, удивительные штуки, а прежде всего — людей. О них надо судить, именно когда они страшны, небриты, осатанели и делают вс`емеро против своих сил… И потом: у нас любят кричать о героизме, а по-моему это следует делать молча, со сжатыми зубами. Перед кем хвастать? Старое не переубедишь, а молодое… я крепко верю в своё поколенье, Шмель». Зашевелилась даже «недвижимая глыба туркменского дехканства, тёмная, как все мужики мира»: «сама опасность придавала людям сознательность и доблесть».
Наградой стал спасённый урожай и сознание общей победы, которое намного сильнее чувства личного успеха: «Они стояли на безыменном азиатском полустанке. Громадные кипы прессованного хлопка лежали под навесом —
наглядное свидетельство того, что время и усилия их не прошли даром».
Устами героя повести говорит сам писатель. Леонов тоже крепко поверил
в своё поколение. Пессимизм уходит из его творчества, автор словно растворяет окно, впуская в свою мастерскую свежий воздух. Это воздух после дождя, который прибил пыль и очистил улицы от той грязи, которая накопилась за последние годы. Разумеется, никакого слепого восторга Леонов не испытывал. Привыкнув проникать в суть явлений и трезво их оценивать, он видел недостатки советского строя. Но если раньше писатель боялся, что эти недостатки рано или поздно забьют своим мутным илом родники всеобщего обновления и похоронят проект переустройства общества, то теперь они превратились в его глазах в недоделки. И у тех людей, которые готовы штурмовать небо, есть силы, чтобы эти недоделки устранить.
Программные установки нового периода леоновского творчества в наиболее ёмком виде содержатся в его выступлении на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Он прошёл в 1934 году, так что у нашего героя было время сформулировать свои принципы предельно чётко — и, прежде всего, для самого себя. «Товарищи, нам дано удивительное счастье жить в самый героический период мировой истории, — так начинает Леонов свою речь. — Отсюда вытекают и наши обязанности, и наши права, и наша гордость и трудности наши… ни в одну эпоху литератор не испытывал такой почётной и высокой ответственности, как сейчас. Это наше основное дело — показать в образах, глубоких и запоминающихся, великое столкновение идей, разработать хотя бы вчерне принципы новой морали и запечатлеть рождение ещё неслыханного мира». Как далее подчёркивает Леонов, художественная литература перестаёт быть только беллетристикой — «она становится одним из самых важных орудий в деле ваяния нового человека». На советского писателя ложится огромная задача — помочь стране шагать вперёд, показывая во всей полноте её свершения и её героев, открывая перед людьми образ будущего. «Всякая фальшивая нота поэтому неизменно влечёт к тому, что автор, пускай бессознательно, лишь затемняет великую правду, разъяснить которую он обязан по самому существу своего призвания», — уверен Леонов. Чтобы этого не произошло, писатель должен находиться в гуще народной жизни, «быть рядовым тружеником эпохи». «Это означает, что необходимо самому подняться на ту высоту, откуда виднее всего варварство вчерашнего каменного века, глубже осознать историческую силу новых истин, вся философская глубина и социальное величие которых в их простоте; сделаться, наконец, самому неотъемлемой частицей Советской власти, взявшей на себя Атлантову задачу построить общество на основах высшей, социалистической человечности», — заключает Леонид Леонов.
Строители будущего
На мировоззренческих основах, которые обозначил писатель, им один
за другим создаются три романа — «Соть» (1930), «Скутаревский» (1932) и «Дорога на Океан» (1935). Начнём с первого из них. Говоря на съезде о близости
к жизни, Леонов судил по личному опыту. Перед написанием «Соти» он ездит
по стройкам первой пятилетки, посещает строительство Сясьского («Сясьстрой») и Балахнинского целлюлозно-бумажных комбинатов, знакомится
с сотнями людей — от руководителей до рядовых рабочих. Поэтому среда, в которую поместил писатель своих героев, оказалась убедительной и яркой. «Подлинным творчеством» назвал книгу Горький, добавив, что написана она «вкуснейшим, крепким, ясным русским языком».
Завязка романа происходит в малообжитом лесном краю. Обитателей тамошних деревушек почти не коснулись бури эпохи. Они живут тем же бытом, что их деды и прадеды, даже глава сельсовета Ипат Лукинич лишь для виду использует советскую риторику, на деле это обломок старого режима, прежде служивший швейцаром «у барыни». «Хороший бы из тебя черносотенец вышел, товарищ!» — говорит ему главный герой Увадьев.
Неподалёку, на высоком берегу реки Соть, стоит древний монашеский скит. Это не очаг духовности и просвещения, какими были церковные форпосты в северных землях несколько веков назад. Давно, задолго до революции, превратился
он в этакую нору, полную тёмных, озлобленных на мир людей. Леонов обильно пересыпает текст метафорами, дающими представление об этом месте: «могильная тишина», «человеческая пустыня», «кусок семнадцатого века», «червоточина». Монахи с враждебностью встречают известие о строительстве бумажного комбината, которое должно уничтожить их обиталище. Они сравнивают вторжение индустрии с апокалипсисом, предрекая Советской власти всяческие кары.
Но у тех, кто несёт в эти глухие места новую жизнь, своя, горячая, убеждённость. «Вот мы встанем на этом месте, на берегу, где старики сидят… видишь? Будем строить большой завод, каких праведники твои и в видениях не имели. На том заводе станем мы делать целлюлозу из простой ели, которая вот она, пр`опасть, без дела стоит. Из неё станут люди бумагу делать — для науки, порох`а — чтоб отбиваться от врагов, и многое другое на потребу живым… И отсюда поведётся красота!» — объясняет одному из монахов большевик Увадьев.
Этот человек, который кинул «вызов Соти, а вместе с ней и всему старинному обычаю, в русле которого она текла», — один из самых сильных в галерее леоновских персонажей. Характерные для него черты — непоколебимая уверенность в правоте своего дела, огромная требовательность к себе и к окружающим — в большей или меньшей степени проявлялись в героях более ранних произведений — Павле (Антоне) в «Барсуках», Петре Маронове в «Саранче».
В Увадьеве они обрели законченное, цельное воплощение. «…Нет в нём мясного состава, он из другого вылит, из красного чугуна», — говорят близко знающие его люди. Это почти на каждом шагу подтверждает сам Увадьев. «Тот, кому может быть хорошо при всяком другом строе, уже враг мне!» — заявляет он.
Однако за жёсткой, для многих отталкивающей, бронёй скрывается мечтатель, видящий перед собой благородную цель. Огромная и необъятная, она сконцентрировалась в мыслях Увадьева в образе маленькой девочки, для благополучия которой он не жалеет ни себя, ни окружающих: «Где-то там, на сияющем рубеже, под радугами завоёванного будущего, он видел девочку, этот грубый солдат, её звали Катей, ей было не больше десяти. Для неё и для её счастья он шёл на бой и муку, заставляя мучиться всё вокруг себя. Она ещё не родилась, но она не могла не прийти, так как для неё уже положены были беспримерные в прошлом жертвы».
Да, по сути, одно от другого — мечта от временных лишений — неотделимы. Увадьев понимает, что достижение цели невозможно с помощью либерального пустословия. Чтобы построить счастливый мир для всех, нужно безжалостно выкорчевать старые пни, пройтись по земле глубоким плугом и посеять в неё семена новой жизни. Что, в свою очередь, требует от строителей будущего преданности идее и готовности на любые жертвы. «Тебе жить надо, и так жить, чтоб — спросят тебя: „Что, человек, делаешь?„ — и тебе б не стыдно ответить было», — призывает Увадьев, предвосхищая мысли Павки Корчагина, увековеченные Н.А.Островским несколько лет спустя.
Рядом с Увадьевым находятся не менее пылкие люди. Сузанне — дочери богатого управляющего заводом — «однажды опротивело нарядное благочиние отцовской квартиры, горничные в крахмальных наколках и мебель, запустившая корни в пыльные углы». Она уходит из дома, участвует в Гражданской войне, а затем кончает институт, получая профессию инженера-химика. Спустя много лет встретившись с родителями, Сузанна понимает, какая пропасть
их разделила. «Они довели нас до нищеты», — говорит ей мать, имея в виду Советскую власть. А дочь, поморщившись от «затхлого ветерка прошлого», вспоминает кухаркиного сына, которому во время редких его приездов стелили
на полу какой-то ветхозаветный балахон.
С большой симпатией описывает Леонов и Сергея Потёмкина — председателя губисполкома. Ему первому приходит мысль создать комбинат, и для воплощения своей идеи он не жалеет сил. «Это всё лес, прорва лесу… стоит, гниёт, сохнет. В нём водятся грибы, медведи, пустынники, черти, всё — кроме разума и воли», — объясняет он. «И горячее человеческое тепло исходило от него», — добавляет автор. Со своим проектом Потёмкин обивает пороги учреждений, убеждаясь, как мало
в них настоящих горящих сердец: «твердя о социализме, все называли этим словом что-то расплывчатое и как будто удалённое на века».
Начавшаяся стройка превращается в битву, в которой сталкиваются прошлое и будущее, реакционное и прогрессивное. Бывший белогвардеец Виссарион Булавин, работающий завклубом и научившийся мимикрировать («в революцию выживают либо дубы, либо гибкий осинничек, крапивка да прилипчивая ягодная травка в тени подгнивающих пней», — объясняет он своё мастерство приспособления), пытается поднять местное население на бунт. Даже природа, тоже олицетворяющая прошлое с его слепыми, неподвластными человеку силами, противится попыткам её укротить. Соть выходит из берегов, грозя уничтожить всё, построенное людьми.
Но, как и в «Саранче», человеческая воля оказалась сильнее. Круглыми сутками в ледяной воде сотни людей добровольно устраняют последствия аварии. Этот общий порыв поражает инженеров, воспитанных старой дореволюционной школой: «Бураго опустил глаза; на его памяти случались не раз строительные катастрофы, но этой добровольной отваги он не встречал никогда. Очень туго и с усмешкой, точно его понуждали на фальшь, он сообразил: тогда гибло чужое, тогда гибло только золото». Поставлен в тупик и иностранный инженер, приехавший на Соть. «Временами он совсем отказывался понимать смысл и судьбы этой пространной географической нелепости, какой представлялась ему Россия, где уживались и треск социального половодья, и мудрая, проницательная тишина», — иронизирует Леонов.
Но в том-то и дело, что новая, социалистическая, Россия избавилась от вековечного низкопоклонства перед Западом и с полным на то основанием может смотреть на него сверху вниз. В этом смысле показателен спор Увадьева с инженерами. Последние протестуют против использования новейших машин, «которые в ту пору и за границей-то испытывались пока без особого успеха». «…Четыреста двадцать метров в минуту — это действительно не для нас, у которых Азия за плечами», — скептически настроен один из них, Бураго. Ему возражает Увадьев, уверенный в бесконечных возможностях Советской страны.
«У нас вообще любят скулить о прошлом, потому что безвольны к будущему, — отрезает он. — Ты слушай не стоны, а цифры! Купи билет и поезжай по стране; ты увидишь новые избы, новые заводы, новых людей…».
Леонов постоянно подчёркивает, что строительство комбината на Соти — это отражение подвига, который совершала вся страна. «При кратких промельках луны корпуса лесов представали как остовы огромных кораблей, на которых отважные собирались отплыть в обетованные земли», — пишет он. Этот символ встречается на протяжении книги не единожды. «Ломались рули, и их заменяли новыми; только от мудрости капитана и выносливости самой команды зависел успех рейса туда, куда ещё не заходили корабли вчерашнего человечества», — думает герой книги.
Заканчивается роман сценой, где усталый Увадьев смотрит на огни работающего уже Сотьстроя. Но за этими огнями он видел и другие — мириады огней будущего, освещающие его мечту. «Колючим, бесстрастным взглядом уставясь в мартовскую мглу, может быть, видел он города, которым предстояло возникнуть на безумных этих пространствах, и в них цветочный ветер играет локонами девочки с знакомым лицом; может быть, всё, что видел он, представлялось ему лишь наивной картинкой из букваря Кати, напечатанного на его бумаге век спустя… Но отсюда всего заметней было, что изменялся лик Соти и люди переменились на ней».
Выход книги критика в своей основной массе встретила очень благосклонно. Но уже в позднесоветское время (например, в комментариях к 10-томному собранию сочинений, изданному в 1981—84 гг.) сквозит непонимание ни героического подвига 1930-х годов, ни персонажей вроде Увадьева и Потёмкина.
С псевдогуманистических позиций им пеняли на презрение к личности отдельного человека, на невнимание к вопросам духовности. Не стало ли это непонимание одним из признаков близкого конца советского проекта?..
«Скутаревский» и судьбы интеллигенции
Следующий роман — «Скутаревский» — вышел спустя всего два года. Затрагивая иные проблемы — судьбы российской интеллигенции в новую эпоху и становление советской науки — он, однако, крепко соединён с предыдущим произведением идейными нитями. Жизненный путь главного героя — учёного-электрофизика Сергея Скутаревского — настоящий подвиг во имя науки. Сын скорняка, вырвавшийся из своей среды исключительно благодаря упорству и жажде знаний, он долгое время не находил применения своему таланту. «Однажды его выселяли за просрочку квартирной платы; в другой раз его чуть не убило при испытании высоковольтного трансформатора. Семья кормилась на копейки», — таков был удел молодого учёного в царской России. Со временем капитал уразумел для себя пользу его открытий. У Скутаревского появились деньги, его имя зазвучало, но не о такой славе он мечтал: «Лихая эта метелица успеха длилась до самой революции; она слепила и мешала работе, которая была его целью, подвигом, схимой и единственным путём к самоутверждению».
Несмотря на предложения западных университетов, после 1917 года он остался в стране и однажды был приглашён на встречу с Лениным — человеком
«с именем которого были связаны светлейшие надежды одной и животный страх другой, гораздо меньшей половины человечества». Скутаревский был потрясён: его собеседник не только проявил осведомлённость в вопросах физики, но и предложил «построить новый, со своей собственной подстанцией институт, специально для работ Скутаревского и его немногочисленных учеников. Сергею Андреичу предоставлялись выбор места, оборудованья, составление эскизного проекта и даже самая смета». Советская страна, которая даже в тяжелейшее время смотрела в будущее, дала учёному возможность творить. «Сквозь окопы войны и рогатки блокады сюда привозили осциллографы, — тогда ещё совсем новинки, зеркальные гальванометры, редчайшие компараторные аппараты и те высоковольтные, до миллиона вольт, трансформаторы, которых в ту пору не имели ещё и немцы», — отмечает автор. Ленинская идея всеобщей электрификации соединилась с научной мечтой Скутаревского о беспроводной передаче электроэнергии на любые расстояния.
Но этой мечте тяжело взлететь в поднебесье. Её держат тяжёлые путы окружающего быта. Учёный переживает душевный кризис — словно преодолевает «главный, решающий перевал» в своей судьбе. Случайная встреча с девушкой Женей и последовавшее «землетрясение» в его семье открывают Скутаревскому глаза на окружающих людей. Связанные с ним узами родства, они не только не близки ему — они откровенно враждебны его высоким порывам. Жена —
Анна Евграфьевна — относится к мужу свысока. Для неё это неотёсанный «азиатский человек», а заслуженную Скутаревским славу она «конвертирует» в куда более приземлённый капитал. Одержимая «скверным микробом стяжательства», Анна Евграфьевна собирает «произведения искусства». Вот только к истинному искусству все эти вещи, которыми захламлена квартира учёного, не имеют никакого отношения. Вокруг неё крутятся сомнительные личности вроде скользкого мошенника Штруфа — вся эта «горелая человеческая труха», по замечанию Леонова. Они продают жене Скутаревского пошлые фальшивки под видом шедевров. Так, например, Штруф навязал Анне Евграфьевне собственное изображение под видом редчайшего портрета короля Франциска Первого, а та повесила его в кабинете учёного.
Уверив себя в измене мужа, она и жалеет, главным образом, о потере этих безделиц. «И вещи… я собирала их по крохам, менялась, обманывала. Отдать их ей он не посмеет», — жалуется она брату — Петру Евграфовичу Петрыгину. Как и его сестра, этот человек видит смысл в накоплении, но его страсть далеко не столь безобидна. Он ненавидит социалистический строй, и для этого проныривает в один из руководящих органов советской промышленности. По ходу повествования выясняется, что Петрыгин является участником подпольной организации, готовящей диверсии на предприятиях. В своих грёзах он видит, как, «еле поспевая за судьбой и словом, плывут иностранные вымпела к ленинградским воротам революции, топочут грузные сапоги интервенции, шумят казацкие плавни на Дону и колышется мужицкая Сибирь. Турбины вчерашней пятилетки десятками выходят из строя, лопаются маховики, сбиваются с такта моторы… и вот под гром военных оркестров стройный тридцатилетний генерал
в треуголке и ботфортах шествует от моря до моря…».
На крючок своего дяди-антисоветчика попадает сын Скутаревского Арсений, что становится причиной тяжёлых размышлений отца-учёного. Они очень далеки друг от друга, и единственный откровенный разговор (вернее, монолог) состоялся в больничной палате, где после попытки самоубийства умирал Арсений. «Я помню тебя, когда ты краснел даже при слове чужой неправды, — с горечью говорит Скутаревский. — Какое нам дело до тех жуликов, что потеряли навсегда свои неправедные сокровища! Драться за них нечестно…».
Леонид Леонов возвращается здесь к мысли, ставшей стержневой в предыдущих произведениях, — к мысли о грузе прошлого, который мешает даже самым сильным личностям полностью встроиться в течение новой эпохи. Скутаревского не просто опутывает затхлый быт семьи, которому он в меру сил противится —
он сам бессознательно несёт на себе родовые пятна ушедшей эпохи — это «непобедимое давление мёртвых». Среди них — слабое понимание социальных процессов и индивидуализм исследователя-одиночки. «Ему хотелось сделать много, а выходило мало… Вместе с тем он знал, что недоступное его косноязычным формулам осуществимо уже потому, что об этом мечталось именно ему, Скутаревскому. Так, эгоистически выделяя себя из непрерывного человеческого потока и живя как бы воспоминаньями будущего, он завидовал своему не очень отдалённому потомку, который без усилий достигнет всего, над чем бесплодно корпел он сам», — пишет автор. Глубоко закономерно поэтому, что решающий эксперимент — итог многолетней работы Скутаревского — оканчивается неудачей.
Историческую ограниченность старой интеллигенции может преодолеть новое поколение советских учёных и организаторов производства. В романе Леонова они предстают в образах Фомы Кунаева, Николая Черимова, Джелладалеева и, наконец, девушки Жени, пошедшей в науку. «Вчерашняя романтика всегда хуже сегодняшней, — говорит Черимов, споря с Арсением Скутаревским. — Романтику мы делаем сами… Уезжай куда-нибудь на стройку, где каждая строка стоит иной твоей фронтовой страницы… Ты слышал что-нибудь
об ударниках? Иди в массы, растопи свой лёд, не буксуй зря…». «Яростный противник всякого прометейства… он по-прежнему всюду отстаивал взгляд, что под любым изобретением должна подписываться вся масса сотрудников,
а не один только его вдохновитель», — описывает автор того же Черимова.
Такие люди, заметим мы, и подняли советскую науку на невиданную высоту. Игорь Курчатов, Сергей Королёв, Сергей Ильюшин и многие другие выдающиеся учёные и конструкторы тоже были выходцами из низов и начали свой путь
в науку в те самые «вихревые» 1920—30-е годы. И то, что Леонов сумел разглядеть зарождение этого уникального продукта советской эпохи, говорит
о его большой чуткости и прозорливости.
Скутаревский между тем совершает глубокое переосмысление своей гражданской и научной позиции. Мучительный внутренний переворот завершается, наполняя учёного новым смыслом жизни. С этими чувствами он едет по вечерним улицам на завод, чтобы выступить перед тысячами молодых советских рабочих. «Казалось, самая планета ускоряла своё вращенье, и центробежная сила выталкивала из неё цветы, алые знамёна, зелень и неугомонную, певчую человеческую породу.
Езжайте скорее! — сказал Сергей Андреич».
И вот он стоит перед огромной аудиторией… «…Его прервали грохотом рукоплесканий. Было так, точно взорвалось длительное недоумение, разделявшее их до этой минуты, — пишет Леонов. — В этом небывалом приёме… выразилось многое — и прежде всего приглашение разделить свою временную неудачу
на миллионы долей… Сердце его колотилось зло, аритмично, точно после крутого спуска с горы, точно перед путешествием в грозную и обширную страну, которая белым глухонемым пока пятном обозначена на картах». В статье, вышедшей вскоре после публикации «Скутаревского», Леонов объяснил эволюцию гражданской позиции своего героя. «Основная тема романа… — показ интеллигента так называемой второй фазы принятия Октября. Первая фаза характеризовалась примерно такой социально-психологической установкой интеллигенции: „Ну что ж, я нахожусь на службе у рабочего класса, но мои старые традиции и мировоззрение остаются в своей полной чистоте и неприкосновенности”. Вторая фаза характерна именно коренным пересмотром этих традиций и принятием Октября уже не только как совершившегося факта, но и идеологически, мировоззренчески, путём окончательного перехода на позиции рабочего класса».
«Любимое детище»
Завершение и высшая точка леоновского трёхкнижия — роман «Дорога
на Океан». Сам писатель неоднократно подчёркивал особенность этого произведения, выделяя его среди остальных и называя «любимым детищем». «„Дорогу на Океан” я писал в момент возвышенного настроения, почти физического ощущения величия наших дел и устремлений», — говорил он. И, объясняя смысл книги, добавлял: «Для меня „дорога» была как бы прокладкой магистрали в дальнее будущее мира. Само же название — „Дорога на Океан” — означало не только дорогу и не только „железную”, и не просто на Восток, к Тихому океану, но и к Океану — в понятии вечности».
Философская символика, характерная для всех книг Леонова, обретает здесь наибольшие отточенность и силу. Волго-Ревизанская железная дорога,
с которой так или иначе связаны основные действия романа, — аллегория Советского Союза. Как и вся страна, охваченная подъёмом индустриализации, она на пределе своих возможностей выполняет возложенные задачи. В том числе, по перевозке хлеба. «Это было самое грозное слово тех лет. Политическое значение хлеба давно переросло его товарную ценность. По существу, новая эра начиналась с этого первого социалистического хлеба...», — пишет Леонов.
Завязка сюжета связана с катастрофой: с рельсов сошли состав с зерном и несколькими пассажирскими вагонами. Разбираться с причиной крушения приезжает новый начальник политотдела железной дороги Алексей Курилов. Бывший рабочий, участник Гражданской войны, человек большой порядочности и убеждённый большевик, он, как и Увадьев в «Соти», часто думает о будущем: «Курилову всегда хотелось явственно представить себе ту далёкую путеводную точку, куда двигалась его партия. Это был единственный способ куриловского отдыха… Как и большинство его современников, он пугался мысли, что ему не придётся держать в руках зрелых плодов дерева, которое вот уже росло, ветвилось и могучими корнями распирало землю. Он не боялся смерти, он только не хотел её».
Эти мечты о завтрашнем дне образуют как бы книгу в книге. Курилов вместе с автором совершает мысленное путешествие сквозь время, становясь свидетелем первого межпланетного полёта и разумного использования человеком безграничных сил природы: «Мы присутствовали при пуске монументальных гидростанций, и утро, например, когда воды средиземноморской плотины, вскипая и беснуясь, рухнули в Среднюю Сахару и на турбины, сохранится в моей памяти, как величайшее торжество разума и человека, не заключённого в тюремные границы древних государств». Объём статьи не позволяет уделить достаточного внимания этим эпизодам, хотя они содержат просто поразительные предвидения, касающиеся и научно-технического прогресса, и исторических процессов.
Мир будущего разделён на два лагеря. Жаждущие реванша капиталистические «элиты» контролируют обе Америки, в то время как Евразия и часть Африки входят в Северную Федерацию Социалистических Республик. Её костяк составляют СССР и Китай, причём именно на территории последнего, в районе Шанхая, расположена столица федерации — город с названием Океан. «Беззаветный героизм всегда сопутствовал освободительным войнам, но в особенности это сказалось в стихийной атаке китайского народа. От века умевший работать, видеть историческую цель и презирать опасность, он не считал трудодней в свою героическую десятилетку подъёма», — писал Леонов за полтора десятилетия до образования КНР. Решающая схватка двух миров начинается с кровавого контрреволюционного мятежа на островах Индонезии (на ум приходит антикоммунистическая резня 1965—66 гг.), продолжается в джунглях Индокитая (война во Вьетнаме!), а завершается грандиозным сражением в Восточно-Китайском море и на Тайване. Силы старого мира разгромлены, над миром взвивается красное знамя.
Но чтобы эти грёзы стали явью в будущем, Курилову приходится отдавать силы настоящему — благо, работы на железной дороге непочатый край. Построенная ещё в XIX веке («не путь, а исторический памятник», говорит один из её работников), она невольно несёт на себе груз того времени. Член местной комсомольской ячейки Алёша Пересыпкин решает написать её историю и, углубляясь в архивы, открывает пласты многомиллионных махинаций и жестокой эксплуатации строителей — простых русских мужиков. Идейный вдохновитель аферы — уездный предводитель дворянства Орест Бланкенгагель — сколачивает состояние, а железная дорога остаётся памятником хищной поре становления российского капитализма. Её дефекты, порождённые жаждой прибыли дореволюционных дельцов, приводят к авариям и катастрофам уже в советское время, но у новой власти пока не хватает сил, чтобы быстро устранить их.
А поскольку железная дорога в романе Леонова — это символ страны и течения времени, становится понятной тревога писателя за судьбу новой жизни. Путы прошлого мешают разбегу коммунистического «поезда» по той дороге
к Океану, которую видит в своих мечтах Курилов. Такими путами являются и те, кто, притворно поддерживая советский проект, втайне жаждет его разрушения. Среди них — бывший белогвардейский офицер Глеб Протоклитов, который участвовал в расправах над красными, а потом, ловко перевоплотившись, вступил в партию и стал делать карьеру на железной дороге. Его, в конце концов, разоблачают, но умирает от болезни почек и Курилов. Этот недуг — тоже своего рода проклятие прошлого, отголосок пыток, перенесённых им в плену у белых.
Но мечта, которая вела за собой Курилова, не умерла вместе с ним. Она продолжает жить в сердцах комсомольцев — Пересыпкина, Сайфуллы, Кати Решёткиной, а также бывшей актрисы Лизы, которая совершает путь из пошлой мещанской среды к честному труду. Курилов отдал силы и саму жизнь преобразованию мира, очищению его от застарелой грязи, и по его дороге к Океану уже идут молодые строители нового общества. Недаром Леонов сравнивает Курилова с мостом «над громадной рекой, проникшей далёким устьем к Океану». «Да, он был как мост, и люди по нему переходили в будущее...», — подчёркивает автор. Если воспринимать произведения Леонова в динамике, как связанные друг с другом картины настоящего и грядущего, то юные ученики Курилова появятся в его следующем романе – «Русский лес». Там комсомольцы — работники депо — по собственному почину построят бронепоезд и отправятся на защиту Москвы от фашистских полчищ. И это полностью оправданная сюжетная эволюция: и Курилов, и его младшие товарищи были готовы пойти на любой подвиг и пожертвовать жизнями ради воплощения великой цели.
Неуслышанные предупреждения
Важность этих трёх романов не исчерпывается тем, что они дают ключ к пониманию переломной и великой эпохи 1930-х годов. Книги Леонова ставят вопросы жизнеспособности советского проекта как такового. Писатель даёт понять, что запас прочности стране придают такие страстные, жертвующие собой подвижники, как Увадьев и Потёмкин, Черимов и Скутаревский, Курилов и Пересыпкин. Благодаря их убеждённости была совершена индустриализация и одержана победа в Великой Отечественной войне. Но Леонов предупреждал, что история может пойти и по другому пути — вспять, в сторону от «дороги
на Океан». Это произойдёт, если место названных героев займут беспринципные эгоисты и карьеристы, если великая мечта о преображении мира окажется слабее живучих сорняков мещанства и своекорыстия.
Отметим, что эту же опасность предвидел В.И.Ленин. В работе «Детская болезнь „левизны„ в коммунизме» он писал, что, несмотря на победу социалистической революции, пролетариат по-прежнему окружён мелкобуржуазной стихией, силами старого общества. Эти силы развращают рабочий класс, вызывают в нём «рецидивы мелкобуржуазной бесхарактерности, раздробленности, индивидуализма, переходов от увлечения к унынию». «Сила привычки миллионов и десятков миллионов — самая страшная сила, — предупреждал Ленин. — Победить крупную централизованную буржуазию в тысячу раз легче, чем „победить” миллионы и миллионы мелких хозяйчиков, а они своей повседневной, будничной, невидной, неуловимой, разлагающей деятельностью осуществляют те самые результаты, которые нужны буржуазии, которые реставрируют буржуазию». Противостоять этому в состоянии только строжайшая централизация и железная дисциплина внутри пролетарской партии. «Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества», — заключал Владимир Ильич.
В художественной форме эти риски обозначены в книгах Леонова, и особенно в трёх описанных нами романах. К сожалению, эти предупреждения не были оценены в должной мере. После смерти Сталина на смену энтузиазму и пламенному порыву пришли скептицизм и равнодушие, в интеллигентской среде доходившие до открытой ненависти к советскому строю. Государственная идеология омертвела, превратившись в застывший набор догм и ритуалов, в форму без содержания. Предчувствие этой угрозы заметно в «Дороге на Океан». Незадолго до смерти Курилов рассказывает мальчику Зямке сказку. В ней предприимчивый европеец решает использовать легенду, бытующую среди жителей одного азиатского королевства. Легенда эта гласила, что однажды явится белый слон, вместе с которым придут сытость и благополучие. Делец покупает слона у владельца передвижного зверинца и приводит его в королевство. Бедное животное, испугавшись звуков барабанов и труб, начинает крушить всё вокруг и погибает под градом стрел. Но европеец не отчаялся: нанятый им механик снабдил тушу мёртвого слона хитрым механизмом. «Когда в будущем году повторился праздник, слон путешествовал как ни в чём не бывало. Размахивал хоботом, уши дрожали, мигали глаза. Он стал очень уравновешенный, толще и даже красивее в этом виде… Только жаль, что колёсики поскрипывали в ногах по недосмотру техника. Так завёлся собственный бог в черномазом королевстве», — завершил Курилов.
Не напоминает ли эта притча последние десятилетия советской истории? Притаившиеся при Сталине сорняки мещанства, эгоизма, частнособственнических страстишек вырвались на свободу, и пропалывать их оказалось некому. После «перестройки» и разрушения СССР они окончательно опутали собой
ту самую дорогу в будущее, которая, будучи заброшенной, сегодня еле угадывается в колючей и бесплодной сорной чащобе…
Леонов на сцене
Но пока на дворе — 1930-е годы, самые активные для Леонова не только
в творческом, но и в общественном плане. Он активно участвует в создании Союза советских писателей, избирается членом его правления, много ездит по стране. И если первая половина десятилетия была отмечена, главным образом, работой в жанре крупной прозы, то вторая половина 30-х годов — расцвет Леонова как драматурга. Абсолютно неверно было бы считать такой переход отливом творческой энергии писателя. Отдельные пьесы этого периода не уступают по значительности лучшим его романам. В них поднимаются не менее острые проблемы современности и ставятся не менее глубокие вопросы, касающиеся настоящего и будущего. «Драматургия… есть самый тяжёлый в смысле ёмкости труда, самый высокий и доходчивый литературный жанр, — подчёркивал сам Леонов. — В этом жанре вполне отсутствует всякая беллетристическая орнаментика; с самого начала автор обязан вскрыть, так сказать, двигательный нерв события, — и, таким образом, зритель с самого начала становится нелицеприятным судьёй наших персонажей, на чьих примерах мы хотим показать борьбу, происходящую в человеческом обществе».
Одна из лучших пьес Леонова – «Половчанские сады», была поставлена
в 1939 году. Вся она буквально пронизана предвоенным напряжением, но, вместе с тем, убеждённостью в силах страны. Главный герой — директор плодового совхоза Адриан Маккавеев — настоящий подвижник своего дела, буквально живущий своим хозяйством, его нуждами и проблемами. Огромный сад — своеобразная метафора советской страны, недаром выведенный в совхозе новый сорт яблок получает название «Родина». Но богатства Маккавеева — не только плодовые деревья, но и его дети. Пять сыновей, среди которых моряк-подводник, танкист, врач, инженер и спортсмен, тоже служат родной стране. «Я понимаю подвиг как цветение мужества и зрелости. И я ввёл бы это обязательным для каждого комсомольца страны. Покажи себя родине во весь рост, незнакомец!» — говорит один из них, Юрий. Со всех концов страны съехались они к отцу на день его рождения.
Но вместе с радостью приходит тревога. Одновременно с гостями желанными появляется гость нежданный — Матвей Пыляев. До того, как стать женой Маккавеева и заменить мать его сыновьям от первого брака, Александра Ивановна родила
от этого человека двух детей. И вот теперь, спустя много лет, этот духовно опустошённый, озлобленный и одинокий человек появляется в доме своего антагониста. Пыляев продолжает череду образов, через которые выступает старый мир. «Мне всё чудится, вот двери рухнут, и целое кладбище ворвётся за ним», — говорит Александра Ивановна. И действительно, несчастье не замедлило себя ждать: в семью Маккавеевых приходит известие о гибели одного из сыновей — Василия — при испытании подводной лодки в полярных водах. Таково дыхание близкой войны. «Родина готовится к бою… Воздух… жёсткий на ощупь», — говорят герои пьесы. Впереди всех их ждут тяжёлые испытания. Вряд ли выживут сады, расположенные неподалёку от западной границы. Но Родина будет жить, пока есть такие люди, как Маккавеев и его сыновья — готовые к подвигу «перья в крыле огромной птицы».
В эмигрантской и постсоветской критике Леонова нередко называли конъюнктурным писателем. Это грубое заблуждение. Леонов действительно проникся тем вихрем созидания, который охватил страну. Но он не скрывал
ни от самого себя, ни от читателя беспокойства за явления, имевшие место
в то сложное и неспокойное время. Это приводило к тому, что вокруг каждого творения писателя разворачивались настоящие бои, в которых сталкивались положительные и отрицательные оценки. Наиболее конфликтным в этом смысле произведением стала пьеса «Метель» (1940). Всё её действие происходит
в квартире Степана Сыроварова — «директора чего-то». Этот человек ведёт двойную жизнь. Брызжа трескучими фразами о коммунизме и пролетариате,
он бредит «красивой жизнью» и втайне готовится осесть за границей. Для этого Сыроваров пускается в валютные махинации: «задумал уберечь себя от будущего и вот перекинул украдкой краюху хлеба через забор, на чёрный день». Тех же своих сотрудников, которые становятся на его пути, директор нейтрализует доносами с обвинениями в контрреволюционной деятельности.
Не касаясь подробно столь обширной и противоречивой темы, выскажу лишь одну мысль. В оценке репрессий 1930-х годов одинаково неверными являются как раздувание до солженицыновских «ста миллионов», так и полное их оправдание. То, что жертвами становились не только реальные враги, но и безвинные люди, что репрессии сопровождались истерией доносов и взаимной подозрительности, показал Леонов. Причём показал настолько открыто, как никто из современников. Чего стоит обмен репликами между персонажами пьесы:
«Лизавета. …У нас по району ровно ветровал прошёл. На каланче один
уж сколько годов стоял, старичок, а на деле открылося, всё объекты высматривал. Шпиён турецкий оказался.
Иван. Мамань, это который из райфо — турецкий, а тот, с каланчи, африканский».
Не менее смелым стал и сам сюжет пьесы. Советский руководитель Степан Сыроваров оказывается подлее, чем его брат Порфирий — бывший белогвардеец и эмигрант, заслуживший возвращение на родину раскаянием и участием в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев.
Наверное, в условиях приближающейся большой войны и необходимости быстро скреплять общественные трещины это показалось перебором. Постановлением Политбюро ВКП(б) пьеса «Метель» была запрещена к постановке. Но никаких других последствий за этим, несомненно, неприятным
для писателя событием, не последовало. Леонова не арестовывают и не ограничивают свободы передвижения. В конце 1940 — начале 1941 года он совершает новую поездку в Среднюю Азию, плодами которой стали несколько замечательных очерков.
Художник великого подвига
Тем временем неумолимой поступью приближалась война. В отличие от некоторых собратьев по писательскому цеху, Леонов ни на минуту не поддался унынию или страху. С первых же дней вражеского нашествия его перо стало разить врага, возбуждать в советских людях чувства патриотизма и ненависти к тем, кто пришёл убивать, грабить, насиловать. В советских газетах публикуются пронзительно-сильные статьи Леонова, он пишет сценарии для «Боевых киносборников», а половину получаемых гонораров перечисляет в Фонд обороны. Трудно остаться невозмутимым, читая написанные в те годы строки — через них передаётся волнение автора и чувствуется дыхание грозовых военных лет. «Пройдут годы. Как мрачный сон планеты, схлынет в небытие гитлеровский эпизод. Новые вёсны обольют своим цветом пожжённые, подавленные танками наши сады… Чёрным словом вспомнят люди этих дикарей, возомнивших себя владыками мира, и с благодарностью произнесут имена славных защитников Москвы, которая жила, боролась, трудилась — и не была сдана. Бывают минуты, которые ст`оят вечности. В такое время живёшь ты, наша Москва!» — пишет Леонов в ноябре 1941 года (статья «Наша Москва»). «…Мы услышали новых людей, которые в огне сражений или в бессонной партизанской ночи отдали себя родине. Они стоят перед нами во весь свой исполинский рост, светлее солнца, без которого никогда — ни в прошлом, ни в будущем нашем — не цвели бы такие цветы на благодатной Русской земле. Воистину непобедим народ, который родил их!» — продолжает он в другой статье — «Твой брат Володя Куриленко», посвящённой подвигу 17-летнего партизана.
Невероятно живыми и волнующими были репортажи Леонида Леонова. Работая военным корреспондентом «Известий» и «Правды», он неоднократно выезжал
на фронты — Брянский, Волховский, 1-й Украинский, наблюдал за Харьковским процессом — первым открытым процессом над нацистскими преступниками.
А статьи победной весны 1945-го — это, без преувеличения, вершина леоновской публицистики. «Совесть в нас чиста, — писал он в статье «Утро победы». — Потомки не упрекнут нас в равнодушии к их жребию. Вы хорошо поработали, труженики добра и правды, которых фашизм хотел обратить не в данников, не в рабов, даже не в безгласный человеко-скот, но в навозный компост для нацистского огорода… Живи вечно, мой исполинский народ, ликуй в близкий теперь день торжества великой правды, о которой в кандалах, задолго до Октября, мечтали твои отцы и деды».
В качестве корреспондента «Правды» Леонов присутствует на Нюрнбергском процессе, публикуя несколько очерков. Описывая чудовищные преступления фашистов, лёгшие в основу обвинений, и циничные усмешки убийц,
он отмечает: «Конечно, это ещё не некролог. Некролог будет позже. Он будет иметь видимость осинового кола. Мы вобьём его по правилам народной приметы, чтобы остриё прошло через чёрное сердце вурдалака, и притопчем землю вокруг. И будет проклят этот клочок земли до скончания веков, пока ходит солнце в небе и радуется ему хоть один человек на земле!»
Произведения Леонова военного периода не ограничиваются очерками и репортажами. В эти грозовые годы им были написаны две пьесы («Нашествие» и «Лёнушка») и повесть «Взятие Великошумска». «Нашествие», впервые поставленное в ноябре 1942 года, стало выдающимся событием начального, самого трудного периода войны. «Никто в нашей драматургии не сумел так обжигающе сильно рассказать о том, что довелось нам пережить в тяжёлые дни нашествия, как это сделал Леонов», — отмечал критик Евгений Сурков.
В небольшой город вступают немцы. Вместе с ними возвращаются «мертвецы» из прошлого, среди которых — бывший городской голова Фаюнин, пошедший в услужение фашистам. Но ни зверства захватчиков, ни щедрые посулы
не заставят склонить свою голову врача Ивана Таланова. Он помогает группе подпольщиков, в которую вступает его дочь Ольга, и с которой в конце концов связывает свою судьбу его сын Фёдор. Недавно вернувшийся из заключения, этот молодой человек озлоблен на людей, охвачен эгоизмом, личные лишения заслонили от него народное горе. «Люди жизни не щадят, с врагом бьются. А ты всё в сердце своё чёрствое глядишь», — говорит его старая няня Демидьевна. На протяжении пьесы происходит внутреннее преображение Фёдора. Чтобы спасти руководителя подпольной группы, он жертвует собой.
Произведение оценили по достоинству. Леонову присудили Сталинскую премию (которую он также передал в Фонд обороны), «Нашествие» было экранизировано режиссёром Абрамом Роомом. Но главное, что пьесу и фильм тепло приняли советские зрители.
Не меньший резонанс произвела повесть «Взятие Великошумска» — одно из первых художественных произведений о войне, созданных в годы самой войны. Материал для него Леонов собирал буквально на передовой. В ноябре 1943 года он приезжает на 1-й Украинский фронт. Только что освобождён Киев и наши войска, развивая наступление, движутся на запад. Но враг ожесточённо огрызается. В ставке Гитлера формируют ударный кулак из 15 дивизий, половина из которых танковые. Фашисты перешли в наступление и отбили Житомир, но дальше их лавина остановилась, натолкнувшись на стойкое сопротивление Красной Армии. Решающий вклад в разгром противника внесла 3-я танковая армия генерала Рыбалко и гвардейский танковый корпус под командованием Андрея Кравченко. Их черты присутствуют в герое повести — генерале Литовченко. Уроженец тех самых мест, где теперь шли бои, он с волнением вернулся сюда спустя тридцать лет и «этот неотданный должок… с лихвой платил теперь своей земле, людям на ней и её честной правде».
Но главный герой произведения другой. Это танк Т-34 с бортовым номером 203 и его экипаж. Участвуя в отражении вражеского натиска, стальная машина совершает дерзкий и беспримерный рейд по фашистскому тылу — «рывок в бессмертие». Этот подвиг символизирует подвиг всей страны, а в танкистах «тридцатьчетвёрки» виден весь советский народ. «Считай то место, Вася, где ты находишься,
за самую главную точку на земном шаре… а всё остальное — только прилежащие окрестности. И думай, что нет тебя важней во всемирной истории, которая тебе это самое дело поручила. Потому что история, милый Вася, это тоже танк… держи крепче руки на рычагах!» — говорит командир Собольков новому водителю танка.
О подвиге экипажа военной машины невозможно читать без замирания сердца. Это, без преувеличения, одни из лучших страниц в немалом литературном наследии Леонова. Поэтому недоумение вызывают надменные замечания современных критиков, называющих повесть «средненькой». Нет, далеко
не средненьким было описание этого «баснословного кинжального рейда, о котором лишь потому своевременно не узнала страна, что он затерялся в десятке ему подобных». «Поколениям танкистов он мог бы служить примером того, что может сделать одна исправная, хотя бы и одинокая тридцатьчетвёрка, когда её люди не размышляют о цене победы…», — продолжал автор.
Сегодня спекуляции относительно этой самой «цены победы» всё чаще заслоняют собой и подвиг солдата, и саму Победу. Именно об этом тревожился Леонов, писавший, что «герой, выполняющий долг, не боится ничего на свете, кроме забвения». К счастью, не подозревали тогда советские герои, как извратят историю Великой Отечественной войны спустя десятилетия, как будут рушить их памятники и запрещать красные знамёна. Они знали, что сражаются за Родину и за будущие поколения. «На что мы только не пускаемся для них, для деток… Сами в гать стелемся, лишь бы они туфелек своих в сукровице не замочили. Веришь, всю дрянь жизни выпил бы одним духом, чтоб уж им ни капельки не осталось. А может, и не поймут?» — в этих словах Соболькова слышится волнение — тогда ещё неясное.
«Русский лес»
Теперь мы понимаем, чего боялся герой повести. И, если хотим сохранить «право на родину», должны беспощадно сопротивляться этому насаждению беспамятства. Ведь это — один из последних наших бастионов в борьбе с капиталистическим варварством, желающим превратить человечество в жующее тупое стадо. «Животному чуждо мышление о завтрашнем дне, разум капиталиста в его когтях и зубах. Он идёт, сгрызая всё на пути, чтобы сдохнуть когда-нибудь в кроманьонской норе от голода и стужи вместе с теми, кто имел несчастье ему довериться». Эти слова из другого произведения Леонида Леонова — романа «Русский лес». Выйдя первым отдельным изданием в 1954 году, он стал неким сводом философских и нравственных размышлений писателя. Его широкое полотно вместило мысли
о судьбах России и мира, об отношениях человека с природой и человека с человеком, о неизбежности и сути советского проекта… Как «Илиада» и «Одиссея» являются ключом к пониманию греческой цивилизации и греческой культуры, так и «Русский лес» — это окно в историю первой половины XX века.
У главного героя книги — учёного-лесовода Ивана Вихрова — непростая судьба. Родившись в глухой деревушке, в семье простого крестьянина, которого царская власть убила за тягу к справедливости, он уже в детстве испытал озарение, определившее всю его дальнейшую жизнь. Таким озарением стало прикосновение
к родной природе и, через неё, к Родине. Произошло это во время детского путешествия в лес, прозываемый в народе Пустошами. Обнаружение родничка — истока большой реки — и знакомство с «хозяином леса» Калиной Глуховым дали Вихрову путь в жизни. Благодаря своему уму он поступает в петербургский Лесной институт, поставив перед собой цель — спасти лес от варварского истребления. То, как относился российский капитализм к природе, Вихров увидел ещё в детстве, став свидетелем уничтожения любимых им Пустошей лесопромышленником Кнышевым. Этот же протест против бессмысленного разора привёл его к принятию Октябрьской революции. Он «понял, что спасения русских лесов надо искать не в добровольном самоограничении помещиков, а в решительном народном перевороте».
Доказывая опасность сплошных вырубок, Вихров в своих трудах и в своей преподавательской деятельности отстаивал идею непрерывного лесопользования на научных основаниях. Революция принесла с собой «гул пробуждения» русского леса, но учёный по-прежнему вынужден вести жёсткую полемику. Ряд деятелей принялись обвинять Вихрова в желании сорвать планы индустриализации, спекулируя на необходимости ускоренного промышленного развития страны. Самый активный из них — академик Александр Яковлевич Грацианский, в совершенстве освоивший искусство миметизма, или мимикрии. Самовлюблённый эгоист, в душе презирающий и трудовой народ, и социалистические преобразования, он хорошо приспособился к новой жизни. Доводя до абсурда правильные лозунги и обрушиваясь с критикой на принципиальных учёных вроде Вихрова, Грацианский вполне сознательно подрывает советский строй. «Вдохновлённый удачной расправой с Туляковым и только что отшумевшей дискуссией за снижение оборота рубки, он раскрыл на пробу прямодушную вихровскую книгу, отыскал корень зла, подвёл под него базу, прикинул
в перспективе, подрисовал недостающее, якобы сознательно затуманенное автором, изложил всё это с надлежащей эмоциональной приправкой — и получилась такая востренькая штучка, вроде путёвки на виселицу», — отмечает автор.
Остаётся удивляться, как метко охарактеризовал Леонов этот тип советских работников — внешне «правоверных» коммунистов, ненавидящих социализм и готовых всадить ему нож в спину при удобном случае. Одна из самых зловещих фигур позднесоветского времени — Александр Яковлев — даже именем своим напоминает Грацианского. Начав с прославления строя и хлёстких псевдомарксистских выступлений, вроде статьи «Против антиисторизма», он закончил открытым предательством СССР. В романе Леонова Грацианский терпит фиаско. Правота Вихрова признаётся на уровне руководства страны (в реальности это выразилось в принятии сталинского «Плана преобразования природы»), его оппонента разоблачают истинные, а не мнимые приверженцы коммунистических взглядов — Крайнов, Морщихин и Поля Вихрова. После смерти Сталина таких убеждённых людей становилось всё меньше, не они стали определять путь развития страны. Да и грандиозный проект лесонасаждений был свёрнут с приходом к власти Хрущёва…
Но тогда, когда создавался «Русский лес», триумф предателей казался невозможным. Действие книги происходит на фоне начавшейся Великой Отечественной войны, и массовый героизм подтверждал историческую правоту и незыблемость начатого советской страной рывка в будущее. Эта убеждённость очень хорошо видна в романе. «Подобно большинству своих сверстников, Серёжа был воспитан в презрении ко всякой моральной нечистоте, извлекающей барыш из несчастий ближнего; комсомольскую доблесть он полагал в готовности безраздельно отдать себя социалистической родине», — такую характеристику даёт писатель приёмному сыну Ивана Вихрова. А его дочь Полина, добровольно ушедшая на фронт и встретившая ожидающего казнь 13-летнего подростка-подпольщика, думает
о том, что «прежде, чем наступит рассвет на земле, на ней должны смениться поколенья строителей и воинов, гигантов с железными сердцами, беспощадных к самим себе и упорных, как бур или плуг с наваренной на лемеха мечтою».
Весь старый мир — мир торгашей и собственников — хочет уничтожить эту «заразительную идею всечеловеческого возрождения», для чего натравливает на неё выпестованного им фашистского зверя. Но завоеватели сталкиваются с непонятными, пугающими их человеческими существами, которые презирают золото и для которых нет ничего желаннее бескорыстного подвига. Это столкновение двух мировоззрений проявляется в сцене допроса Поли Вихровой немецким офицером, желающим разгадать «таинственную русскую душу». И крайне символично, что выполняющую ответственное задание девушку спасает русский лес — тот самый, за спасение которого бился её отец. Жизнь берёт верх над смертью, а один подвиг порождает другой. Возвращаясь на склоне лет к заветному родничку, так много сыгравшему в его судьбе, Иван Вихров встречает там внука лесника. Его тоже зовут Калиной, и он тоже готов защищать и лес, и правду, и родную землю. «Это не было чудом, ни даже удивительным совпадением, а самое обыкновенное в природе продолжение жизни», — заключает Леонов.
«Волчьи ямы» поворотов истории
Роман заслуженно оценили и простой читатель, и руководство страны, что выразилось в присуждении писателю Ленинской премии. Послевоенные годы были отмечены утверждением Леонова как признанного общественного деятеля. «Русский лес» стал далеко не единственным выступлением писателя в защиту родной природы. В 1947 году в «Известиях» вышла имевшая огромный резонанс статья «В защиту друга», за которой последовали другие — «Объединить защитников природы», «Снова о лесе» и др. Важные мысли присутствуют
в статьях и выступлениях Леонова о русских и зарубежных мастерах слова — Н.В.Гоголе, А.С.Грибоедове, Л.Н.Толстом, А.М.Горьком, А.Барбюсе…
Писатель избирается депутатом Верховного Совета СССР нескольких созывов, в 1967 году ему присваивается звание Героя Социалистического Труда,
а в 1972 году он становится действительным членом Академии наук СССР. Но вытеснить литературный труд все эти заботы, к счастью, не смогли. Леонов продолжает творить, хотя темпы работы были ниже, чем в самые продуктивные для него 20–40-е годы. В 1963 году выходит повесть «Evgenia Ivanovna», работу над которой писатель начал за тридцать лет до этого. В творчестве Леонова это сравнительно небольшое — всего 70 страниц — произведение занимает особое место. С необыкновенным лиризмом и, вместе с тем, чеканно-лаконично описана история простой русской девушки, волею судеб оказавшейся в эмиграции. Её муж — белый офицер Стратонов — не выдерживает тягот полунищенского существования и исчезает, бросив Евгению одну. «Едва хватало сил обороняться от искушений лёгкой жизни… Вместе с другими такими же, под ногами у сытых, чужих и праздных, голодуха погнала её по столицам мира», — описывает автор.
На самом краю пропасти к ней приходит спасение. Она встречает английского профессора-археолога Пикеринга, который, полюбив девушку, берёт
её в путешествие по Средиземноморью. Счастье, казалось, уже близко,
но слишком велика разница в их мировоззрениях. Учёный со всемирным именем не понимает тоски Евгении по родине и, цитируя Дидро, говорит ей, что она должна быть свободна от обязанностей к дереву, «которое без сожаления… ну, отпустило, сбросило вас». «Противоестественно любить то, что платит вам ненавистью», — уверен Пикеринг. «Значит, людям большого ума легче, чем нам, маленьким, пускать корешки в чужую почву!» — отвечает Евгения. И вслед
за тем добавляет: «Так не сердитесь же, я сделана из этой земли»
Идя ей навстречу, профессор принимает приглашение советских коллег. Они едут в Россию, но вместо оживляющего прикосновения к родной земле Евгения переживает новое тяжёлое испытание. В Грузии она встречает бывшего мужа, который не погиб в Алжире, как до того сообщили ей, а вернулся на родину и работает гидом. Озлобленный, опустошённый, Стратонов пытается разрушить благополучие Евгении и Пикеринга. Жалость к этому человеку, подогреваемая воспоминаниями прошлого, сменяется презрением. Она уезжает с новым мужем в Англию,
но умирает весной следующего года. Быть оторванным от дерева листом она так и не смогла. «…Попытки не испорченных западной цивилизацией наших беглецов вывезти с собою горстку сурового русского снежка в страны более умеренного климата завершались неудачей, — он неизменно таял», — пояснил Леонов
Но сильнее всего писателя в это время тревожил другой вопрос — ответственность человека за жизнь на земле и за будущее мира. По мнению Леонова, хищническая эксплуатация природных ресурсов, безрассудная гонка вооружений, агрессивная бессмыслица общества потребления вгоняют человечество
в узкий коридор, который может окончиться тупиком. «Натерпевшись от страхов, кризисов и войны, люди на земле ложатся спать с надеждой, что за ночь всё устроится к лучшему… Решение основной проблемы современности… целиком… зависит от нашего поведения сегодня. И чтобы не тужить потом,
не следует сопротивляться наступающей новизне, ни равным образом шалить с неизвестностью. Ибо, представляется мне, на сегодняшнем повороте истории мало одного оптимизма и удальства, как, наверное, недостаточно и реформаторского вдохновения. Крайне желательно даже высочайшие веления ума поверять прозрением большого сердца», — писал он в канун нового, 1964 года.
Художественным выражением обуревавших писателя сомнений и тревог стала киноповесть «Бегство мистера Мак-Кинли» (1961), по которой режиссёром Михаилом Швейцером был снят одноимённый фильм. Её герой — среднестатистический клерк в одной из западных стран — живёт в постоянном страхе перед войной, что мешает ему радоваться окружающей жизни и завести семью. И вот однажды Мак-Кинли узнаёт об изобретении газа, который позволяет человеку проспать много лет, проснувшись в том же физическом состоянии, каком он уснул. Открытие взято на вооружение предприимчивым бизнесменом, открывшим целую сеть сальваториев — подземных хранилищ тел граждан, «желающих перескочить через завтра». С трудом найдя необходимую сумму (а такая услуга по карману только состоятельным людям), Мак-Кинли впадает в забытьё на долгие 250 лет. Но мир, в который
он попадает, намного страшнее сегодняшнего. Земля, насколько хватает глаз, выжжена и мертва. «Итак, ловушка: бегство не состоялось! Заветная мечта м-ра Мак-Кинли завершается обыкновенной воздушной тревогой… Новичку выдержать это никак нельзя — м-р Мак-Кинли с воплем бросается ничком на мерзкую, обожжённую землю своей мечты…», — повествует Леонов.
Данные картины оказались ночным кошмаром героя, но поставленный писателем вопрос не становится от этого менее острым. Безучастность, индивидуализм и желание убежать от проблем современности вместо их решения ведут мир к страшному финалу. Грядущее, на которое люди возлагают столько надежд, может принести с собой не мир и процветание, а страдания и смерть.
Таким образом, спустя почти сорок лет Леонид Леонов возвращается к образу «вечного Унтиловска» — тёмного будущего, на которое люди обрекают себя своим эгоизмом и равнодушием. И это не отдельный эпизод. Творчество писателя в последние годы в значительной степени теряет заряд оптимизма, характерный для него в 30—40-е годы. В нём всё настойчивее звучат ноты скептицизма и сомнений — те самые, которые превалировали в ранних произведениях Леонова. Писатель пытается привлечь внимание к «волчьим ямам», появившимся на пути общества — причём как западного, так и советского. В одном из выступлений писатель назвал в их числе «наплевательски-потребительский прогресс», принцип жизни на основе «окаянной наживы, мошны, чистогана и брюха», а также «восторженные обоюдоприятные реляции и вообще благостную трескотню с поразительно ограниченным словарём». Но, продолжал Леонов, не нужно бояться «пессимистичных картинок». „Слово о полку Игореве„ тоже не поэтический рапорт о великой победе, а какую историческую работу оно проделало…», — подчёркивал он.
«Россию любить в непогоду»
Эти же мысли проходят сквозь весь роман «Пирамида» — последнее и самое крупное произведение Леонова, над которым он работал свыше полувека. Претерпев несколько редакций, «Пирамида» была опубликована только в 1994 году —
за несколько месяцев до смерти писателя. «Не рассчитывая в оставшиеся сроки завершить свою последнюю книгу, автор принял совет друзей публиковать её в нынешнем состоянии. Спешность решенья диктуется близостью самого грозного
из всех когда-либо пережитых нами потрясений — вероисповедных, этнических и социальных — и уже заключительного для землян вообще. Событийная, всё нарастающая жуть уходящего века позволяет истолковать его как вступление к возрастному эпилогу человечества: стареют и звезды», — написал Леонов в предисловии.
Контраст «Пирамиды» с романами 1930-х годов разительный. Если тогда будущее представлялось Леонову в образе Океана — огромного простора, по которому смело движутся люди новой эпохи, то теперь он говорит об измельчании и даже вырождении людской расы. Послезавтрашний день человечества представлен
в видениях Дуни Лоскутовой, которую ангел Дымков сопровождает в «прогулках» по будущему. Он перекликается с кошмаром мистера Мак-Кинли, увидевшего землю после термоядерной катастрофы. Отношение к возможностям человеческого разума также претерпевают радикальные изменения: «…До своей обзорной вышки разум добирается по шатким, друг на дружку составленным лестницам уравнений и гипотез с единственным щупом в виде звёздного луча, а много ли океана углядишь через прокол диаметром в геометрическую точку?».
Скептицизм Леонова объясним. Капиталистическая цивилизация всегда вызывала у него отторжение — как и те воздыхатели «спасительного» Запада, готовые занять там хотя бы местечко отельного холуя. «Аристократы заграничного ширпотреба, готовые своё первородство сменять на коверкотовые штаны, бутылку вермута или хромированную зажигалку», — так описывал их писатель. Долгое время он видел альтернативу этому тупиковому пути в социализме, но к концу жизни всё заметнее становится разочарование Леонова. Видя накапливающиеся сбои и недостатки позднего СССР и, как чуткий художник, предвидя приближающуюся катастрофу, он принял это за общий крах коммунистической идеи. Леонов пытается найти выход в обращении к религии, критикует атеизм, призывает к защите православных храмов. «Жизненно необходимо, чтобы народ понимал свою историческую преемственность в потоке чередующихся времён, — из чувства этого и вызревает главный гормон общественного бытия, вера в своё национальное бессмертие», — писал он в статье «Раздумья у старого камня».
Но в глубине души Леонов, видимо, осознавал вторичность и неполноту такой надклассовой, внеисторической замены. Отсюда — его драматические сомнения и беспокойство последних лет жизни. Они хорошо отражены в книге «Лица века» писателя и многолетнего обозревателя «Правды» В.С.Кожемяко. Виктор Стефанович несколько раз встречался с Леоновым в последний год его жизни, оставив бесценные записи этих бесед.
Несмотря на неоднозначность некоторых своих взглядов, в самые сложные для страны годы Леонид Леонов проявил мудрость и порядочность, что одномоментно поставило его выше многих коллег. Он не стал пинать погибающую Советскую страну, прекрасно осознавая мотивы тех, кто разрушал СССР. «…Теперь, кажется, Россию вконец добивают, — говорил он Виктору Кожемяко. — Хотят выжить за счёт „третьего мира” — и России, туда же скинутой. Мы повымрем, а они, элитные-то, разместятся. Только это с просчётом расчёт…».
В 1990 году Леонов в числе других писателей подписал «Письмо 74-х» — открытое обращение к руководству страны. В нём выражалось возмущение политикой русофобии и антипатриотизма, вышедшей на официальный уровень. «…Русский человек… сплошь и рядом нарекается „великодержавным шовинистом”, угрожающим другим нациям и народам. Для этого лживо, глумливо переписывается история России, так, что защита Отечества, святая героика русского патриотического чувства трактуется как „генетическая” агрессивность, самодовлеющий милитаризм… Внедряемая в массовое сознание — у нас и за рубежом — ложь о „русском фашизме” была разработана, в частности, во имя аннулирования внешнеполитических следствий Второй Мировой войны, результатов победы Советского Союза и европейских стран антигитлеровской коалиции — всех народов, поднявшихся для разгрома фашистской Германии. Провокационная ложь о „русском фашизме” выдвигается как глубоко унижающий Россию „моральный фон” для объединения Германии, как идеологическое средство превращения страны-победительницы
в страну, покрываемую позором», — указывалось в обращении, и многие из этих предупреждений оказались глубоко пророческими. Леонид Леонов противопоставлял кликушеству русофобии любовь к родной стране. «Россию следует любить именно в непогоду, а при ясном-то солнышке она и всякому мила!» — писал он.
Леонида Максимовича Леонова не стало 8 августа 1994 года. Прожив почти целый век, он не только отобразил его дерзания и достижения, беды и разочарования в своих книгах, но и поставил перед читателями глубокие вопросы, касающиеся роли и места человека в истории, ответственности перед настоящим и будущим. «Стремился уловить ритмы Вселенной» — сказал о нём литературовед Валерий Бондаренко. Сам Леонов так определял назначение писательского труда: «Материал в качестве повода к созданию вещи является подобием искры, способной
в случае успеха осветить и данный момент, и всю ночь, и даже целую эпоху». Называя литературу процессом мышления, писателя он сравнивал с «добросовестным, на 100 процентов выкладывающимся» толмачом, который переводит очень большие, скрытые от глаз явления на язык читателя. «Следователь по особо важным делам человечества», — обмолвился он однажды, говоря об истинном художнике слова. О самом Леонове это можно сказать уверенно.
Тем важнее сегодня читать Леонида Леонова, прислушиваться к нему, извлекать из его книг бесценные жемчужины истины. Это необходимо для выстраивания мировоззренческой системы координат, без которой так трудно человеку остаться человеком и нащупать дорогу вперёд.
Версия для печати