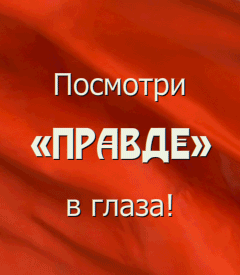В.Ф.Асмус. Мировоззрение Толстого. (Продолжение. Начало в № 5 за 2018 г.)
____
АСМУС ВАЛЕНТИН ФЕРДИНАНДОВИЧ (1894—1978), доктор философских наук, профессор Московского университета с 1939 г. Лауреат Сталинской премии 1 степени (1943), в составе коллектива, за «Историю философии» (М., 1940). Заслуженный деятель науки РСФСР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Работа впервые напечатана в «Литературном наследстве», т. 1 («Лев Толстой») в 1961 г.
IV
Критика насилия и учение о непротивлении
злу насилием. Анархизм
В числе обвинений, предъявляемых Толстым церкви, одно из главных состоит в указании на поддержку, какую находит в учении и в проповеди церкви насилие — насилие господствующих классов современного капиталистического общества.
Проблема насилия, вопрос об источниках его возникновения, о его формах, о его значении в общественной жизни, о его действии на нравственную жизнь людей, о его правомерности или неправомерности, целесообразности или нецелесообразности — всегда была одной из центральных в мировоззрении Толстого. Уже в ранних художественных вещах, посвящённых изображению войны, например в «Набеге», Толстой заявлял, что война интересует его не с исторической или стратегической, но только с этической точки зрения: «...интересовал меня самый факт войны — убийство. Мне интереснее знать, каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве». (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Юбилейное изд. (1828—1928). — М.-Л.: Госиздат, 1928—1955. Т. 8. С. 5).
В педагогических статьях 60-х годов основным принципом, на котором строилась вся практика яснополянской школы, Толстой провозглашает решительное и безоговорочное отрицание насилия в воспитании и обучении.
Отрицание насилия в этих статьях Толстой выводил из недоступности человеку знания о том, что составляет предмет необходимого для человека знания. «Мы не знаем, — писал Толстой, — чем должно быть образование и воспитание, не признаём всей философии педагогики, потому что не признаём возможности человеку знать то, что нужно знать человеку». (Там же. С. 24).
Но Толстой не только ссылался на незнание. Он доказывал, будто насилие
в деле образования невозможно, будто оно не приводит ни к каким результатам, кроме плачевных, и будто насилие воспитателя не может иметь никакого основания, кроме произвола. «Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признаёт, не признавало и не будет признавать его всё воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания». (Там же. С. 217).
Проблема насилия вновь ставится в центре внимания в романе «Война и мир» — и в художественном изображении и в философско-исторических рассуждениях — в изображении плена Пьера Безухова. И здесь внимание Толстого приковано к вопросу — каким образом возможно, чтобы один человек повиновался насилию, совершаемому над ним другими людьми.
Но в «Войне и мире», в отличие от педагогических статей, вопрос этот приводится к другому вопросу — о существе власти. В противоречии со всем художественным содержанием романа, изображающего доблесть и героизм всенародной борьбы против нашествия Наполеона, здесь, в изображении сцен французского плена, выдвигается мысль, будто единственным жизненно правильным образом действий человека, испытывающего на себе самом насилие власти, должно быть терпение и покорность, т. е. непротивление. «„Вот оно!.. Опять оно” — сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В изменённом лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями её, было бесполезно. Это знал Пьер. Надо было ждать и терпеть». (Там же. Т. 12. С. 100).
В то же время явление власти и отношение власти представляется Толстому чрезвычайно важным понятием исторического познания. Будучи, по словам Толстого, «единственным» понятием, «известным историкам», понятие власти есть вместе с тем «единственная ручка, посредством которой можно владеть материалом истории». (Там же. С. 305).
Толстой отверг взгляд, по которому власть есть совокупная воля масс, перенесённая на исторические лица. В этом взгляде он видит простую тавтологию, вернее — повторение термина, смысл которого не поддаётся постижению. «Какая причина исторических событий? Власть. Что есть власть? — Власть есть совокупность воль, перенесённых на одно лицо. При каких условиях переносятся воли масс на одно лицо? — При условиях выражения лицом воли всех людей.
Т. е. власть есть власть. Т. е. власть есть слово, значение которого нам непонятно». (Там же. С. 314).
Но каким бы непостижимым для ума ни представлялось Толстому в «Войне и мире» явление власти, всё же в эпоху, к которой относится работа над этим романом, Толстой был убеждён в том, что соответствие между совокупными действием масс и соображениями и решениями исторических деятелей всё же
в принципе возможно. Поэтому власть Толстой определяет здесь как «такое отношение известного лица к другим лицам, в котором лицо это тем не менее принимает участие в действии, чем более оно выражает мнений, предложений и оправданий совершающегося совокупного действия». (Там же. С. 322). Другими словами, по Толстому, доблесть исторического лица — не в поиске личного решения вопроса и не в действовании, руководимом личным пониманием и личной оценкой исторической ситуации. Доблесть исторического лица —
в способности так поставить себя и так определить своё поведение, чтобы все его действия только выражали совокупное действие масс, или равнодействующую поведения масс, составляющую подлинную ткань исторического процесса. Поэтому для Толстого Кутузов — истинный исторический деятель, выразитель народного смысла войны 1812 года, в то время как Наполеон — деятель мнимый, деятель только в своём субъективном представлении.
В произведениях, написанных в 80-х голах и позже, Толстой развивает критику общественного строя, основанного на порабощении большинства меньшинством. В связи с этим он изменяет постановку вопроса о власти. Он не только гораздо подробнее, чем в предшествующих сочинениях, пытается исследовать связь, существующую между властью и насилием. Теперь Толстого занимает не вопрос о власти вообще, но о насилии, осуществляемом учреждениями государственными и лицами, представляющими государственную власть.
В работах этого периода Толстой развивает учение этического анархизма. Он отрицает не только государство со всеми его учреждениями и установлениями, не только отвергает всякое насилие, совершаемое государством, но вместе с тем пытается доказать, что будто единственным средством радикального уничтожения зла может быть только непротивление злу насилием, т. е. полный отказ от насилия как от средства борьбы с насилием.
Анархизм и доктрина непротивления злу насилием — наиболее характерные черты общественных и этических взглядов Толстого. Именно в анархизме и
в учении о непротивлении всего сильнее сказалось не раз уже обрисованное
в предшествующем изложении противоречие мировоззрения Толстого — противоречие между сильной, смелой, страстной критикой капитализма и наивной беспомощной, юродивой патриархальной крестьянской точкой зрения, с которой Толстой рассматривает отрицательные явления надвигавшегося на Россию и утвердившегося в ней капитализма.
Предпосылку толстовской критики капитализма образует убеждение Толстого, будто общественные отношения между людьми складываются отнюдь не на основе экономических отношений. «...Такое утверждение, — говорит Толстой, — есть только установка, вместо очевидной и ясной причины явления, одного из его последствий». По Толстому, «причина тех или иных экономических условий всегда была и не может быть ни в чём ином, как только в насилии одних людей над другими; экономические же условия суть последствия насилия и потому никак не могут быть причиной отношений между людьми». (Там же. Т. 36. С. 318).
С того времени как возникла борьба между людьми, т. е. противление насилием тому, что каждый из борющихся считал злом, возник и вопрос, следует или не следует противиться злу насилием. Вопрос этот, по Толстому, неустраним и непременно должен быть решён. «...Это — вопрос самой жизнью поставленный перед всеми людьми и перед всяким мыслящим человеком и неизбежно требующий своего разрешения». (Там же. Т. 28. С. 147).
Условием решения этого вопроса Толстой считает освобождение людей от ряда иллюзий, господствующих над их сознанием. Первая в ряду этих иллюзий состоит, думает Толстой, в вере, будто последовательная смена общественных форм и форм государственного устройства привела к уменьшению существующего в обществе насилия. Несмотря на всю значительность изменений, происшедших в западноевропейским и русском обществе с переходом от крепостнических форм к формам капиталистическим, действительным характером общественных отношений и при капитализме осталось, по Толстому, насилие, насильственное угнетение трудящегося большинства нетрудящимся меньшинством.
Более того. Вся предшествующая история общества была, по Толстому, историей смены различных форм насилия человека над человеком. Менялись только формы, но сущность оставалась та же. «Человечество перепробовало все возможные формы насильственного правления, и везде, от самой усовершенствованной республиканской до самой грубой деспотической, зло насилия остаётся то же самое и качественно и количественно. Нет произвола главы деспотического правительства, есть линчевание и самоуправство республиканской толпы; нет рабства личного ... нет самовластных падишахов, есть самовластные короли, императоры, миллиардеры, министры, партии». (Там же. Т. 36. С. 200).
Как бы ни менялись общественные формы, повсюду жизнь общества, утверждает Толстой, представляла до сих пор и представляет в настоящее время картину порабощения большинства меньшинством насильников, захвативших власть над большинством. «Положение нашего христианского мира теперь таково: одна, малая часть людей владеет большей частью земли и огромными богатствами, которые всё больше и больше сосредоточиваются в одних руках и употребляются на устройство роскошной, изнеженной, неестественной жизни небольшого числа семей». (Там же. С. 192).
Напротив, «другая, большая часть людей, лишённая права и потому возможности свободно пользоваться землёй, обременённая податями, наложенными на все необходимые предметы, задавленная вследствие этого неестественной, нездоровой работой на принадлежащих богачам фабриках, часто не имея ни удобных жилищ, ни одежд, ни здоровой пищи, ни необходимого для умственной, духовной жизни досуга, живёт м умирает в зависимости и ненависти к тем, которые, пользуясь их трудом, принуждают их жить так». (Там же. С. 192—193).
Но жизнь современного общества, как полагал Толстой, состоит не только
в насилии, которое большинство терпит от меньшинства. Жизнь, кроме того, состоит в непрерывной борьбе меньшинства с большинством и, наоборот, большинства с меньшинством. «И те и другие, — утверждает Толстой, — боятся друг друга и когда могут, насилуют, обманывают, грабят и убивают друг друга. Главная доля деятельности и тех и других тратится не на производительный труд, а на борьбу. Борются капиталисты с капиталистами, рабочие с рабочими, капиталисты с рабочими». (Там же. С. 193).
Основным проявлением господствующего в общественной жизни насилия Толстой считает отнятие земли у большинства народа, необходимой ему для производительного труда. «...Вглядитесь, — говорит Толстой, — во все ужасы нужды и во все страдания, происходящие от очевидной причины: у земледельческого народа отнята земля. Половина русского крестьянства живёт так, что для него вопрос не в том, как улучшить своё положение, а только в том, как
не умереть с семьёй от голода, и только оттого, что у них нет земли». (Там же. С. 209).
Но народ не только насильственно лишён земли. Он, кроме того, страдает от непрекращающегося насилия богатых и на тех клочках земли, которые у него ещё остались. «...Не говоря уже о главном, о недостатке земли, чтобы кормиться, большинство из них не может не чувствовать себя в рабстве у тех помещиков, купцов, землевладельцев, которые окружили своими землями их малые, недостаточные наделы, и они не могут не думать, не чувствовать этого, потому, что всякую минуту за мешок травы, за охапку дров, без которой им жить нельзя, за ушедшую лошадь с их земли на господскую терпят, не переставая, штрафы, побои, унижения». (Там же).
Внимание Толстого естественно направлено прежде всего на то насилие, которому подвергается русское крестьянство. Но не в лучшем, по Толстому, положении находятся и рабочие. «Несмотря на все притворные старания высших классов облегчить положение рабочих, все рабочие нашего мира, — говорит Толстой, — подчинены неизменному железному закону, по которому они имеют только столько, сколько им нужно, чтобы быть постоянно понуждаемыми
нуждой к работе и быть в силе работать на своих хозяев, т. е. завоевателей». (Там же. Т. 28. С. 135).
При этом насильственное порабощение в сущности мало зависит, по Толстому, от тех форм правления, в которых жили и живут порабощённые массы народа. «Разница только в том, что при деспотической форме правления власть сосредоточивается в малом числе насилующих и форма насилия более резкая; при конституционных монархиях и республиках, как во Франции и Америке, власть власть распределяется между б`ольшим количеством насилующих и формы её выражения менее резки; но дело насилия, при котором невыгоды власти больше выгод её, и процесс его, доводящий насилуемых до последнего предела ослабления, до которого они могут быть доведены для выгоды насилующих, всегда одни и те же». (Там же).
Толстой разглядел и те формы насилия господствующего класса капиталистического общества, которые характеризуют эпоху империализма. Даже происшедшее в последние столетия «ограничение власти среди западных народов и распространение её во всём народе не облегчило, — по Толстому, — бедствий народа, а только привело людей этих народов и к развращению и к тому положению, в котором они должны жить обманом и грабежом других народов». (Там же. Т. 36. С. 332).
Так, западные народы, кроме своих внутренних бедствий и развращения большей части своего населения вследствие его участия во власти, приведены к необходимости «обманом и насилием отнимать для своего пропитания труды восточных народов». Напротив, восточные народы в большинстве своём до сих пор «продолжают повиноваться своим правительствам и, отставая в выработке средств борьбы с западными народами, приведены к необходимости покоряться им». (Там же. С. 331). Но зло, причиняемое насилием угнетателей над угнетёнными, не ограничивается, по Толстому, одним лишь прямым подавлением и ограблением большей части народа. Насильственно подавляя народ, власть угнетателей, кроме того, как утверждает Толстой, развращает угнетаемый ею народ. Главным последствием участия во власти большинства людей западных народов Толстой считает то, что люди, «всё более и более отвлекаясь от прямого труда земледелия и всё более и более вовлекаясь в самые разнообразные приёмы пользования чужими трудами, лишились и своей независимости и уже самым положением своим приведены к необходимости безнравственной жизни. Не имея охоты и привычки кормиться трудами с своей земли, западные народы неизбежно должны были приобретать средства для своего существования от других народов». (Там же. С. 327).
Таково, по Толстому, положение городских классов, покинувших земледельческий труд в Германии, Австрии, Италии, Франции, Соединённых Штатах Америки и в Великобритании. «Почти все люди этих народов, сделавшись сознательными участниками насилия, отдают свои силы и внимание на деятельность правительственную, промышленную и торговую, имеющую главной целью удовлетворение потребностей роскоши богатых, и становятся людьми — отчасти прямой властью, отчасти деньгами — властвующими над земледельческими народами, которые доставляют им предметы первой необходимости...». (Там же. С. 327).
Толстой на дал себя обольстить внешне смягчёнными и прикрытыми формами, за которыми в капиталистическом обществе прячется социальное зло,
угнетение, колониальное притеснение и грабёж, милитаризм. С неукротимой и неотступной решительностью Толстой клеймит лицемерие буржуазного общества, срывает маску с бесчеловечной сущности господствующих в нём отношений, разоблачает иллюзии и необоснованные надежды, которыми тешат себя его апологеты.
В критике капиталистических форм насилия и угнетения сказались сильнейшие и лучшие стороны мировоззрения Толстого: горячее сочувствие народу, превосходное знание реальных экономических условий и отношений крестьянской жизни, свобода от обольщений и предрассудков либерализма, умение разоблачать софизмы публицистической, философско-исторической и экономической апологетики капитализма.
Однако даже соединённое действие всех этих качеств, сообщавших деятельности Толстого мировое значение, не могло сделать толстовскую критику капитализма свободной от заблуждений. Независимость от предрассудков либерализма и свобода от обольщений либеральных теорий прогресса отнюдь
не знаменовали у Толстого освобождения от всех вообще социальных иллюзий и заблуждений. В вопросах об общественном устройстве и о путях общественного развития Толстой сам оставался в плену глубоких заблуждений и во власти иллюзий.
Толстой ошибочно считал всякую власть злом. Он не допускал возможности власти, не противостоящей народу, а служащей народу и ведущей народ к жизни, в которой нет и не может быть насилия меньшинства над большинством.
Общим источником ошибок толстовской критики капитализма была неспособность Толстого стать при рассмотрении капитализма на конкретно-историческую точку зрения. Толстой не мог понять, какой класс современного капиталистического общества и при каких условиях может вывести человечество
из новой — капиталистической — формы порабощения. В бессильном ужасе Толстого перед сменившим крепостническое угнетение угнетением капиталистическим отразился ужас, с каким многомиллионная русская деревня пореформенного и дореволюционного периода глядела на своё обнищание, разорение, ограбление, порождаемое новым — капиталистическим — порядком. Всем этим фактам и процессам русская патриархальная деревня могла противопоставить не столько свою веками накоплявшуюся ненависть, сколько свою веками длившуюся покорность.
Из этого противоречия родилось и основное противоречие толстовского протеста. Беспощадное и в высшей степени конкретное (особенно в художественных произведениях) изображение ужасов капиталистического угнетения, разоблачение обмана и иллюзий правящих классов, постановка конкретных вопросов демократии и даже социализма сочетаются у Толстого с наивным предрассудком и иллюзией идеалистической этики — с мыслью, будто господствовавшее до сих пор в отношениях между людьми насилие может быть изжито и побеждено не борьбой угнетённых против угнетающих, а только непротивлением, т. е. полным и безусловным отказом от какого бы то ни было насилия,
от всякой борьбы как средства преодолеть господствующее зло.
V
Взгляд на революцию
Толстой не понимал, что догма, или, точнее, предрассудок непротивления, есть выражение слабости, бессилия, недостаточной политической зрелости русского крестьянства. Предрассудок этот владел мышлением Толстого как аксиома нравственного и социального мировоззрения. Вместе с тем Толстой чувствовал связь своего учения о непротивлении с многовековым образом мыслей и образом действий патриархального русского крестьянства. «Русскому народу, — писал Толстой, — большинству его, крестьянам, нужно продолжать жить, как они всегда жили, — своей земледельческой, мирской, общинной жизнью и без борьбы подчиняться всякому, как правительственному, так неправительственному насилию...». (Там же. С. 259).
Толстой попросту игнорирует многочисленные факты и явления революционного брожения и революционного действия (восстания, уничтожение и
сожжение усадеб помещиков) в истории русской крепостнической деревни. Согласно обобщению Толстого, верному только относительно патриархального крестьянства, русский народ, в отличие от других народов Запада, будто бы руководится в своей жизни именно христианской этикой непротивления.
«...В русском народе, — писал Толстой, — во всём огромном большинстве его, вследствие ли того, что Евангелие стало доступно ему ещё в X столетии, вследствие ли грубости и тупости византийско-русской церкви, неумело и потому неуспешно старавшейся скрыть христианское учение в его истинном смысле, вследствие ли особенных черт характера русского народа и его земледельческой жизни христианское учение и его в его приложении к жизни не переставало и до сих пор продолжает быть главным руководителем жизни русского народа в его огромном большинстве». (Там же. С. 337).
Уповать на насилие как на средство борьбы со злом могут, по Толстому, только люди, которые верят, будто усовершенствование человеческой жизни может быть достигнуто изменением внешних общественных форм. Так как изменение это очевидно возможно и доступно, то считается возможным и усовершенствование жизни посредством насилия.
Взгляд этот Толстой отвергает, как будто бы в корне ошибочный. По Толстому, освобождение человечества от насилия может быть достигнуто только внутренним изменением каждого отдельного человека, «уяснением и утверждением в себе разумного, религиозного сознания и своей соответственной этому сознанию жизнью». (Там же. С. 205). «Жизнь человеческая, — утверждает Толстой, — изменяется не от изменения внешних форм, а только от внутренней работы каждого человека над самим собой. Всякое же усилие воздействия
на внешние формы или на других людей, не изменяя положения других людей, только развращает, умаляет жизнь того, кто ... отдаётся этому губительному заблуждению». (Там же. С. 161).
В этом толстовском запрете всякой политической деятельности под тем предлогом, будто деятельность эта есть изменение одних лишь внешних форм человеческой жизни и не затрагивает внутренней сути человеческих отношений, — сказалась, как и в других вопросах общественного мировоззрения Толстого, глубокая, впервые Лениным раскрытая, связь между мировоззрением Толстого и мировоззрением патриархального крестьянства — с его аполитичностью, незнанием причин общественных бедствий, непониманием условий их преодоления.
Из этого незнания вытекало глубокое сомнение в доступности для человека какого бы то ни было знания о том, какими будут, какими должны быть формы будущей жизни человеческого общества. И действительно, первый довод, посредством которого Толстой обосновал бесплодность всякой деятельности, направленной на изменение внешних общественных форм, состоял именно
в утверждении, будто человеку не дано знание, каким должно быть будущее состояние общества.
Толстой отдаёт себе ясный отчёт в том, что среди людей распространён противоположный взгляд. «...Люди, — говорит Толстой, — уверившись в том, что они могут знать, каким должно быть будущее общество, не только отвлечённо решают, но действуют, сражаются, отнимают имущество, запирают в тюрьмы, убивают людей, для того, чтобы установить такое устройство общества, при котором,
по их мнению, люди будут счастливы». (Там же. С. 353). Люди, продолжает Толстой, «не зная ничего о том, в чём благо отдельного человека, воображают, что знают, несомненно знают, что нужно для блага всего общества, так несомненно знают, что для достижения этого блага, как они понимают его, совершают дела насилия, убийства, казней, которые сами признают дурными». «Там же. 353—354).
Напротив, по Толстому, условия, в которые станут между собой люди и
те формы, в какие сложится общество, зависят «только от внутренних свойств людей, а никак не от предвидения людьми той или иной формы жизни, в которую им желательно сложиться». (Там же. С. 353).
Другой довод, при помощи которого Толстой хочет доказать бесплодность всякой деятельности, направленной на изменение общественных форм, состоит в утверждении, что даже в случае, если бы люди действительно знали, каким должно быть наилучшее устройство общества, устройство это будто не могло бы быть достигнуто посредством политической деятельности. Оно не могло бы быть, по Толстому, достигнуто, так как политическая деятельность всегда предполагает насилие одной части общества над другой, а насилие, так утверждает Толстой, не устраняет рабства и зла, но лишь заменяет одну форму рабства и зла другой.
На этом ошибочном доводе Толстой построил столь же ошибочное отрицание благотворности революции, в частности отрицание исторический благотворности первой русской революции.
Толстой ни в малейшей степени не отрицает истинности принципов, которыми воодушевлялись идеологи Французской буржуазной революции. «Деятели революции, — писал Толстой, — ясно выставили те идеалы равенства, свободы, братства, во имя которых они намеревались перестроить общество.
Из принципов этих, — продолжает Толстой, — вытекали практические меры: уничтожение сословий, уравнение имуществ, упразднение чинов, титулов, уничтожение земельной собственности, распущение постоянной армии, подоходный налог, пенсии рабочим, отделение церкви от государства, даже установление общего всем разумного религиозного учения». (Там же. С. 194—195). Толстой признаёт, что всё это были «разумные и благодетельные меры, вытекавшие из выставленных революцией несомненных, истинных принципов равенства, свободы, братства». (Там же. С. 195). Принципы эти, признаёт Толстой, а также и вытекающие из них меры «как были, так и остались и останутся истинными и до тех пор будут стоять как идеалы перед человечеством, пока
не будут достигнуты». (Там же). Но достигнуты эти идеалы, утверждает Толстой, «никогда не могли быть насилием». (Там же).
Непонимание этой, — несомненной, как кажется Толстому, — истины было проявлено не только деятелями французской революции XVIII века. По Толстому, это непонимание лежит также в основе теоретических понятий и практической деятельности русских революционеров 1905 года. «То противоречие, — полагает Толстой, которое так ярко и грубо выразилось в большой французской революции и вместо блага привело к величайшему бедствию, таким же осталось и теперь. И теперь, — утверждает Толстой, — это противоречие проникает все современные попытки улучшения общественного строя. Все общественные улучшения предполагается осуществить посредством правительства, то есть насилия». (Там же).
Чрезвычайно интересно и знаменательно, что в своих размышлениях о будущем ходе развития русского общества Толстой нисколько не сомневался в том, что в начавшейся в 1905 году борьбе между революцией и самодержавным правительством победит в конечном итоге не правительство, не самодержавие, а революция. «...Вам, — с такими словами обращался Толстой к правительству, — не устоять против революции с вашим знаменем самодержавия, хотя бы и с конституционными поправками, и извращённого христианства, называемого православием, хотя бы и с патриархатом и всякого рода мистическими толкованиями. Всё это отжило и не может быть восстановлено». (Там же. С. 304).
Не сочувствуя методам революционного преобразования общества, Толстой сочувствовал тому отрицанию существующего социального и политического строя, которым руководись деятели революционного движения. Поэтому не прав известный датский историк русской литературы Стендер-Петерсен, когда он пишет: «В действительности же всё толстовство, как было названо его учение, толстовское отрицание существующего общественного порядка, его требование непротивления злу и его рационализированная религия — не что иное, как мощная попытка перетолковать по-своему движение народников, постепенно становившееся всё более революционным и террористическим, а также преградить путь новому, марксистски-социалистическому учению о борьбе классов». (Stender-Petersen. Geschichte der Russischen Literatur. — Munchen, 1957. Т. II. S. 368).
Но, не считая ни правым, ни просто разумным самодержавное правительство в его борьбе с революцией, Толстой всё же решительно осуждает деятельность революционеров.
Возражения, выдвинутые им против революционного разрешения назревшего в жизни русского народа кризиса, в высшей степени характерны для патриархально-«крестьянского» способа мышления Толстого. Главное его возражение исходит из мысли, что в отличие от революций, происходивших в странах Запада, русскую революцию будут осуществлять не городские рабочие и
не городская интеллигенция, а главным образом многомиллионное крестьянство: «Участники прежних революций — это преимущественно люди высших, освобождённых от физического труда профессий и руководимые этими людьми городские рабочие; участники же предстоящего переворота должны быть и будут преимущественно народные земледельческие массы. Места, в которых начинались и происходили революции прежние революции, были города; местом теперешней революции должна быть преимущественно деревня. Количество участников прежних революций — 10, 20 процентов всего народа; количество участников теперешней совершающейся в России революции должно быть 80, 90 процентов». (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Юбилейное изд.
(1828—1928). — М.-Л.: Госиздат, 1928—1955. Т. 36. С. 258).
Толстовское понимание русской революции 1905 года как крестьянской революции отразило одну, действительно важную, черту этой революции. На это значение толстовского понимания нашей первой революции указывал Ленин. «Толстой, — писал Ленин, — велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 210).
Крестьянский, по представлению Толстого, характер русской революции
не только исключает, как думает Толстой, возможность направления русской революции на путь, по которому совершались революции на Западе, но делает в условиях России всякое подражание западным революциям вредным и опасным. «Опасность, — пояснял Толстой, — в том, русский народ, по своему особенному положению призванный к указанию мирного и верного пути освобождения, вместо этого будет вовлечён людьми, не понимающими всего значения совершающегося переворота, в рабское подражание прежде бывшим революциям...». (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Юбилейное изд. (1828—1928). — М.-Л.: Госиздат, 1928—1955. Т. 36. С. 258).
Второе возражение Толстого против деятельности революционеров состоит в утверждении, будто деятельность эта, даже в странах, где революцию совершают городские рабочие и городская интеллигенция, никогда не приводит к достижению поставленной цели. Не приводит же она к ней потому, что революционная деятельность, будучи основана на насилии, непременно ведёт, так
утверждает Толстой, к установлению новых форм насилия, не менее бедственных для человечества, чем прежние.
Революция может установить новый общественный порядок, только заменив прежнюю форму государства новой. Но так как всякое государство держится на насилии, всякое же насилие, по Толстому, есть только зло и будто бы
не может быть источником или условием блага, то отсюда Толстой заключает, что не может быть таким источником и государство, которое будет создано революцией. «Меняются формы, — писал Толстой, — но сущность отношения людей не изменяется, и потому идеалы равенства, свободы, братства ни на шаг
не приближаются к осуществлению». (Там же. 198).
В своих взглядах на государство и на политические пути развития общества Толстой верно отразил точку зрения патриархального крестьянства пореформенной поры. Но из того, что он верно отразил её, отнюдь, разумеется, не следовало, будто сама эта точка зрения была истинна по существу своего содержания. То, что так верно отразил Толстой в своём учении о неосуществимости революции, было именно непониманием роли политической борьбы и, в частности, борьбы революционной. И оттого, что это непонимание было свойственно в начале XX века ещё значительной — патриархальной — части русских крестьян, оно, конечно, не переставало быть тем, чем оно в действительности и было, т. е. заблуждением, ошибочным и в своих выводах вредным учением.
В толстовском политическом скептицизме, в недоверии ко всякой власти,
ко всякой форме государственного устройства, ко всякому применению насилия в общественной жизни ещё раз отразилось отношение патриархального крестьянства к новому, формально «освободившему» его, фактически же ещё более разорившему и поработившему общественному порядку пореформенной капиталистической России.
Явная и огромная ошибка Толстого в том, что опыт прошлого и наблюдения над настоящим он догматически перенёс на всё будущее. Из того, что все революции, имевшие место до начала XX столетия, не могли устранить неравенство и угнетение трудящихся, Толстой заключал, будто и впредь невозможна никакая форма государственного устройства, которая отвечала бы интересам рабочих и крестьянских масс.
Толстой отрицает возможность создания такой формы государства, так как полагает, будто в соответствии с самой сутью государства добиваться власти, захватывать власть и удерживать власть никогда не могут лучшие (т. е., по понятию Толстого, добрые люди), но всегда лишь худшие (т. е., по Толстому, злые, жестокие, склонные к насилию люди).
Став на эту точку зрения, подробно развитую в книге «Царство божие внутри нас», Толстой последовательно пришёл к полному и безусловному отрицанию государства, т. е. к учению анархизма.
По мысли Толстого, бедствия и противоречия, во власти которых находится нынешнее человечество и прежде всего русский крестьянский народ, прекратятся только тогда, когда будет упразднено государство со всем необходимым для него аппаратом насилия, принуждения и устранения — правительством, администрацией, армией, полицией, судами, чиновниками и т. д.
При этом учение Толстого об упразднении государства отличается важной чертой от многих других анархических учений. Анархизм Толстого не революционен. По мысли Толстого, безгосударственная форма общественного устройства не должна быть установлена посредством насильственного переворота или насильственного разрушения существовавшего государства. Упразднение государства может и должно произойти, думал Толстой, только путём непротивления, т. е. путём мирного и пассивного воздержания или уклонения, отказа каждого члена общества от всех государственных обязанностей — военной, податной, судебной, — от всех видов государственных должностей, от пользования государственными учреждениями и установлениями и от всякого участия в какой бы то ни было — легальной или революционной — политической деятельности.
Это учение Толстого об обществе и о политических формах его развития, как показал Ленин, «безусловно утопично и, по своему содержанию, реакционно
в самом точном и самом глубоком значении этого слова». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 103). Реакционность доктрины Толстого в том, что критические и даже социалистические элементы, которые, согласно анализу Ленина, безусловно были в учении Толстого, не выражали идеологии класса, «идущего на смену буржуазии», но соответствовали «идеологии классов, которым идёт на смену буржуазия». (Там же).
Если поэтому ещё в конце 70-х годов прошлого века «критические элементы учения Толстого могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям населения вопреки реакционным и утопическим чертам толстовства» (там же.
С. 104), то уже в первом десятилетии XX века, как показал Ленин, «всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его „непротивления”, его апелляций к „Духу”, его призывов к „нравственному самоусовершенствованию”, его доктрины „совести” и всеобщей „любви”, его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносит самый непосредственный и самый глубокий вред». (Там же). Всё это значение толстовства впервые было выяснено в гениальных статьях Ленина о Толстом. Вместе с тем статьи эти пролили новый свет
на требования, какие должно предъявлять к исследованиям духовного достояния и духовного мира таких сложных художников и мыслителей, каким был Толстой.
Статьи Ленина о Толстом опровергают основное положение вульгарно-социологического метода в литературной критике, в истории литературы и философии. Статьи эти показали воочию, насколько несостоятельна и примитивна точка зрения историков, которые утверждают, будто идеология большого художника есть непосредственное отражение непосредственных социальных
условий процессов его происхождения, окружения, общественного положения и т. д. Решающей для оценки характера идеологии писателя оказалась точка зрения, на которую становится писатель в своём изображении жизни и которая отнюдь не необходимо должна совпадать с точкой зрения, свойственной людям его социального происхождения и положения. «По рождению и воспитанию Толстой, — писал Ленин, — принадлежал к высшей помещичьей знати
в России, — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь». (Там же. С. 39—40).
Именно это несовпадение точки зрения, с которой Толстой рассматривает, изображает и обсуждает явления и отношения современной ему русской жизни, с точкой зрения, которая, казалось бы, естественно и даже необходимо подсказывалась ему всеми обстоятельствами его происхождения и всеми отношениями его социального круга, позволило Толстому, как показал Ленин, увидеть в явлениях русской жизни то, чего в ней до него не видел никто из писателей, рассматривавших русскую жизнь с другой точки зрения. Отсюда это поразившее Максима Горького, по существу глубоко верное утверждение Ленина, сказавшего, что «до этого графа подлинного мужика в литературе не было». (Горький М. Собр. соч. Т. 17. С. 39).
Но если решающим для результатов творчества большого художника является не непосредственное социальное положение художника, а точка зрения,
с какой этот художник будет рассматривать и изображать явления доступной для людей его круга или для него лично действительности, то подлинно значительным его творчество может стать не при любых условиях. Действительное общественное значение сообщает творчеству не всякая точка зрения, на которую может стать данный художник. Такое значение получает творчество только того писателя или художника, точка зрения которого есть не просто его личный угол зрения, но позиция, выражающая взгляды, настроения, чаяния трудовых классов, представляющих значительную часть народа.
Творчество Толстого приобрело принадлежащее ему значение не просто потому, что Толстой порвал со всеми привычными взглядами своей среды, а потому, что, порвав со своей средой, Толстой стал на точку зрения, представлявшую взгляды и настроения многомиллионного русского крестьянства, т. е. взгляды и настроения хотя «патриархальной», архаической, отсталой, но всё же заключавшей в себе и подлинно демократическую часть массы русского крестьянства.
«Противоречия во взглядах Толстого, — писал Ленин, — не противоречия его только личной мысли, а отражение тех в высшей степени сложных, противоречивых условий, социальных влияний, исторических традиций, которые определяли психологию различных классов и различных слоёв русского общества в пореформенную, но дореволюционную эпоху». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 22).
Толстой велик не тем, что он выразил в своих художественных и философско-публицистических произведениях учение, которое должно стать руководством к практическому действию и которое само по себе истинно. Верное изображение и выражение идеологии не есть ещё тем самым изображение и выражение верной идеологии. Толстой, как показал Ленин, «не мог абсолютно понять ни рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни русской революции...». (Там же. Т. 17. С. 210). Толстой велик потому, что в его искусстве и
в его учении отразилось «великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами...». (Там же. Т. 20. С. 71). Величие Толстого — именно в рельефности, силе, с какими в художественных произведениях и в учении Толстого запечатлены задолго подготовлявшиеся черты первой русской революции.
Самые ошибки и заблуждения Толстого, породив необходимость их опровержения, дали — в этом опровержении — положительный результат. Ленин разъяснил, что для движения вперёд часто оказывается необходимым понять, какие недостатки и слабости препятствовали до сих пор поступательному движению. Но именно эту роль сыграли заблуждения Толстого. «Изучая художественные произведения Льва Толстого, — разъяснял Ленин, — русский рабочий класс узнаёт лучше своих врагов, а разбираясь в учении Толстого, весь русский народ должен будет понять, в чём заключалась его собственная слабость,
не позволившая ему довести до конца дело своего освобождения. Это нужно понять, чтобы идти вперёд». (Там же).
Вся история России после революции 1905 года была подтверждением ленинской оценки мировоззрения Льва Толстого.
VI
Эстетические взгляды
1. Искусство как необходимое условие общественной жизни
Рассмотренные нами главные черты мировоззрения Толстого, как это не раз подчёркивал Ленин, выступают не только в философских произведениях Толстого, но и в его искусстве. И в своих художественных произведениях Толстой обнаружил великую силу критики, о значении которой говорит Ленин.
Чрезвычайная серьёзность реалистических задач, какие Толстой ставит перед собой в своём творчестве, вызвала в писателе острый интерес к вопросу об искусстве, о его значении в жизни общества, о критерии художественности, об условиях совершенства искусства и об условиях его упадка. Интерес этот стал обостряться в последней четверти XIX века, по мере того как Толстой стал убеждаться
в том, насколько он сам расходится с художниками, в том числе очень большими, которые не ставили перед собой столь серьёзных задач. Когда же в художественной жизни Запад и России стали обнаруживаться явления декадентства, протест Толстого против декадентского искусства стал принимать всё более резкие формы. Вместе с тем в Толстом созревало желание ясно сформулировать — для самого себя и для общества — свои понятия об искусстве, о его назначении и о том, как современное искусство выполняет это своё назначение.
Так возникли работы Толстого по вопросам эстетики. В центре их стоит книга «Что такое искусство?». К ним примыкают небольшие статьи, предисловия
к книгам и собраниям сочинений других авторов, высказывания по вопросам искусства во многих письмах и т. п.
Существующее мнение, будто эстетические взгляды Толстого, всецело определяются моральным учением Толстого, справедливо лишь отчасти. В этом мнении верно то, что оценка содержания художественного произведения обусловливается у Толстого соответствием (или несоответствием) этого произведения моральным принципам, которых Толстой придерживался.
Но, кроме решения вопроса о ценности произведения по его моральному содержанию, Толстой признавал необходимым и весьма важным решение другого вопроса: насколько произведение искусства хорошо как произведение искусства, т. е. независимо от выраженного в нём морального мировоззрения художника. В эстетических высказываниях Толстого нетрудно отделить то, что представляет результат моральных позиций и предрассудков Толстого, от того, что открылось Толстому в результате пристального внимания и фактам самого искусства и в первую очередь — к собственному способу видения реальности и к способу её изображения.
Религиозно-моральная тенденция Толстого так же не может умалить значение и ценность его выработанных вразрез с этой тенденцией эстетических идей и понятий о реализме, как не может умалить художественную силу, красоту и истинность «Севастопольских рассказов» и «Войны и мира» доктрина о непротивлении злу насилием, зародыши которой можно обнаружить в мышлении Толстого уже
в то время, когда писались эти произведения, а частично даже в самом их содержании (образ Платона Каратаева в «Войне и мире»). И здесь художественный гений Толстого сказался неизмеримо сильнее, глубже, мудрее его отвлечённой, рассудочной идеи непротивления — идеи, враждебной жизни. Только там, где рассудочная схема и рассудочный суррогат чувства подавляли в Толстом восприимчивость необычайно зоркого художника, заглушали ритм горячего и страстного сердца, притупляли созвучность народной жизни, мёртвая доктрина непротивления злу насилием — проповедь квиетизма, бездеятельного и покорного растворения личности в целом — брала верх, и тогда с уст Толстого слетали неубедительные, бескровные, далёкие от действительности, жизни и истории слова осуждения всякой войны, всякой борьбы, всякого насилия.
Но там, где — как это было в «Набеге», в «Рубке леса», в «Казаках», «Севастопольских рассказах», в «Войне и мире» — мудрость и непосредственная искренность великого реалистического художника, сознание сложности и противоречивости жизни, а главное — горячее чувство любви к своему народу, гордости его прошлым, веры в его великое и славное будущее побеждали мораль непротивления, Толстой изображал явления войны не только с неподражаемой художественной силой и правдой, но и осознавал эти явления как подлинный русский патриот, как русский человек, страстно заинтересованный в судьбе своей родины и своего народа, ненавидящий врагов, посягающих на свободу, независимость русского народа и русского государства.
Только сила, глубина и чистота толстовского патриотизма раскрыли художнику-Толстому глаза на такие стороны Отечественной войны 1812 года, для изображения которых недостаточно одного художественного дарования, даже и толстовского масштаба. В изображении войны 1812 года (а также сцен обороны Севастополя в войне 1855 года) реализм искусства Толстого не может быть отделён от сознательности и убеждённости, с какими Толстой как великий патриот не только изображает, но и осмысливает эти великие события русской военной истории.
В «Войне и мире» Толстой описал, в сущности, две войны: войну 1805 года
с центральным для неё событием Аустерлицкого сражения и войну 1812 года
с таким же центральным для неё событием Бородинского сражения. В то время как первая кампания — 1805 года — была в глазах Толстого войной ненародной, т. е. такой, цели которой были чужды народу, далеки от его жизненных интересов и потому для него непонятны, вторая кампания — война 1812 года — показана Толстым как война подлинно отечественная, как война всего русского народа, поднявшегося на защиту своих священнейших человеческих и национальных прав и интересов: своей свободы, своей земли, своих очагов, своего духовного и морального достояния.
Гениальное уразумение народного характера войны 1812 года позволило Толстому подметить в партизанском движении, сопровождавшем борьбу с иностранными захватчиками, такие черты, которые не замечали многие историки и специалисты военного дела, судившие о фактах партизанской борьбы лишь
с точки зрения сложившихся у них теоретических представлений, не учитывавшие народного характера, народных целей борьбы. Толстой понял то новое, никакими теориями не предвиденное, что внесла партизанская война в опыт русской и мировой военной истории.
Страстность, нетерпимость Толстого, упорное стремление, став на известную точку зрения, бесстрашно развивать её во всей её резкости до самых крайних выводов, чрезвычайно облегчают отделение в суждениях Толстого об искусстве того, что связано с ограниченностью моральной доктрины Толстого,
от того, что есть результат глубокого проникновения гениального художника
в сущность искусства.
Как бы далеко не заходил Толстой в эпоху своих религиозно-моральных исканий в критике современного ему искусства, никогда критика его не превращалась в огульное отрицание искусства. Толстой не мог отрицать искусства уже потому, что в искусстве он всегда видел «одно из условий человеческой жизни». (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Юбилейное изд. (1828—1928). — М.-Л.: Госиздат, 1928—1955. Т. 30. С. 63). Толстой ясно и решительно отвергает взгляд Платона, первых христиан, строгих магометан и буддистов, отрицавших искусство. «Такие люди, отрицавшие всякое искусство, — писал Толстой, — очевидно, были не правы, потому что отрицали то, чего нельзя отрицать, — одно из необходимых средств общения, без которого не могло бы жить человечество». (Там же. С. 67).
Будучи необходимым условием человеческой жизни, а именно условием общения людей, искусство, как показывает Толстой, есть деятельность, далеко
не ограничивающаяся теми проявлениями, за которыми обычно признаётся право именоваться искусством.
«Мы, — писал Толстой, — привыкли понимать под искусством только то, что мы читаем, слышим и видим в театрах, концертах и на выставках, здания, статуи, поэмы, романы... Но всё это есть только самая малая доля того искусства, которым мы в жизни общаемся между собой. Вся жизнь человеческая наполнена произведениями искусства всякого рода, от колыбельной песни, шутки, передразнивания, украшений жилищ, одежд, утвари до церковных служб, торжественных шествий. Всё это деятельность искусства». (Там же. С. 66—67).
В этой мысли Толстой частично предвосхищает один из выводов новейшей лингвистики и эстетики, пришедших к заключению, что художественная деятельность не есть изолированная область и что искусство возникает из тех выразительных и изобразительных средств и элементов, которые присущи уже обычной житейской речи и обычному, повседневному мышлению.
Признаком, по которому известные проявления деятельности, лежащей
в основе искусства, выделяются из всей необозримой массы подобных им фактов и получают название произведений искусства, является, по Толстому, вызвавшая эти произведения к существованию потребность художников сказать людям самое важное, что они думают о жизни.
Взгляд этот Толстой выразил во множестве произведений, но, быть может, всего сильнее и резче в статье о Шекспире. «...Писать драму, — говорит здесь Толстой, — может только тот, кому есть что сказать людям, и сказать нечто самое важное для людей». (Там же. Т. 35. С. 267). Без этого внутреннего содержания, без потребности высказать своё отношение к самым важным явлениям и вопросам жизни, «нечего и браться за писание». «Писателю, — говорит Толстой, — нужны две вещи: знать то, что должно быть в людях и между людьми, и так верить в то, что должно быть, и любить это, чтобы как будто видеть перед собой то, что должно быть, и то, что отступает от этого». (Там же. Т. 64. С. 36). «...Чтобы производить то, что называют произведениями искусства, — разъяснял он художнику Н.Н.Ге, — надо ... чтобы человек ясно, несомненно знал, чт`о добро, чт`о зло, тонко видел разделяющую черту...». (Там же. С. 15).
Искусство, так поучал Толстой маленького писателя Ф.Ф.Тищенко, — «великое дело и нельзя его делать шутя или из-за целей вне искусства». (Там же.
Т. 63. С. 425). Но и большому писателю — Бернарду Шоу, талант которого Толстой очень ценил и даже любил, — он не прощал недостаточно серьёзного, как казалось ему, отношения к самым важным вопросам жизни, которых касался Шоу. «Dear M-r Shaw, — писал Толстой, — жизнь — большое и серьёзное дело, и нам всем вообще в этот короткий промежуток данного нам времени надо стараться найти своё назначение и насколько возможно лучше исполнить его... Нельзя шуточно говорить о таком предмете, как назначение человеческой жизни и о причинах его извращения и того зла, которое наполняет жизнь нашего человечества». (Там же. Т. 78. С. 202).
«Мыслитель и художник, — писал Толстой в трактате „Так что же нам делать?„, — никогда не будут спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; мыслитель и художник должны страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает ещё потому, что он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение,
а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал,
а завтра, может, будет поздно — он умрёт. И потому страдание и самоутверждение всегда будет уделом мыслителя и художника». (Там же. Т. 25. С. 373).
Малейшая заминка художника в этом отношении, отсутствие или ослабление ясно выраженного серьёзного отношения к изображаемым явлениям жизни представлялись Толстому крупным недостатком в художнике и в его произведении.
Отсутствие убеждённого, ясно выраженного, страстного отношения автора к тому, что он изображает, Толстой находил в большей части романов Мопассана, за исключением «Жизни». «В следующих за этим романах: „Pierre et Jean”, „Fort comme la mort” и „Notre coeur”, — писал Толстой, — нравственное отношение автора к своим лицам ещё более путается и в последнем уже совсем теряется. На всех этих романах уже лежит печать равнодушия, поспешности, выдуманности и, главное, опять того отсутствия правильного, нравственного отношения к жизни, которое было в первых его писаниях». (Там же. Т. 30. С. 11).
Во всех рассмотренных случаях под нравственным отношением художника
к жизни Толстой разумеет то религиозное отношение к ней, которое составляет систему взглядов толстовства и которое ему самому представлялось единственно правильным. В этом Толстой, конечно, глубоко заблуждался.
Главная мысль эстетики Толстого не связана необходимо с содержанием религиозно-моральной доктрины самого Толстого и состоит в требовании не равнодушного, а страстного, сознательного, убеждённого отношения художника
к серьёзным явлениям жизни, изображаемым им в произведениях. Именно
в этом смысле Толстой требовал от художника страстной любви к изображаемому — любви, не только не исключающей ненависть к тому, что противоречит и противостоит должному, но необходимо эту ненависть предполагающей. «...Чтобы от всей души говорить то, что он говорит, — писал Толстой В.А.Гольцеву, — художник должен любить свой предмет. А для этого нужно не начинать говорить о том, к чему равнодушен и о чём можешь молчать, а говорить только о том,.. что страстно любишь... Нерв искусства есть страстная любовь художника к своему предмету, а если это есть, то произведение всегда будет удовлетворять и другим требованиям — содержательности и красоте: содержательности будет удовлетворять потому, что невозможно страстно любить ничтожный предмет, а красоте потому, что, любя предмет, художник не пожалеет никаких трудов для того, чтобы облечь любимое содержание в наилучшие формы». (Там же. С. 436).
Страстная любовь к предмету не только подсказывает художнику выбор достойных сюжетов и объектов: она — и только она одна — делает возможным познание изображаемого. «Мы знаем то, что любим только», — писал Толстой Н.Н.Страхову. (Там же. Т. 62. С. 290). «Без силы любви, — писал он Фету, — нет поэзии... В „Дыме” (романе Тургенева. — В.А.) нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии». (Там же. Т. 61. С. 172).
Вспоминая уже в 90-х годах впечатление, произведённое на него в юности повестью Григоровича «Антон Горемыка», Толстой силу этого впечатления — «умиление и восторг» — приписывал прежде всего силе любви, с какой Григорович изображал свой предмет и своего героя. Для Толстого, тогда шестнадцатилетнего мальчика, было «радостным открытием», что русского мужика «можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом». (Там же. Т. 66. С. 409).
Но та же «сила любви», которой Толстой требует прежде всего от художника, обращается в силу ненависти, как только предметом изображения становится то, что отступает от ясного художнику и страстно любимого им образца совершенства. Именно в этом смысле, браня Тургенева за вялость и безучастность
в изображении отрицательных персонажей повести «Накануне», Толстой разъяснял: «...Ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело,
а не так, как одержимый хандрою и диспепсией Тургенев». (Там же. Т. 60. С. 325).
2. Необходимость нового в истинном искусстве
Из этого основного требования, предъявляемого художнику, Толстой выводит тесно связанную с ним черту всякого подлинного искусства. Черта эта — способность художника видеть в изображаемых им отношениях и фактах жизни нечто новое, никем ранее не виденное.
Понятие «нового» — чрезвычайно важное понятие эстетики Толстого. Понятие это стоит в центре толстовского определения художественного таланта. Талант есть, по Толстому, особенный дар, «который состоит в способности усиленного, напряжённого внимания, смотря по вкусам автора, направляемого на тот или другой предмет, вследствие которого человек, одарённый этой способностью, видит в тех предметах, на которые он направляет своё внимание, нечто новое, — такое, чего не видят другие». По Толстому, «для того, чтобы художник знал, о чём ему должно говорить, нужно, чтобы он знал то, что свойственно всему человечеству и, вместе с тем, ещё неизвестно ему, т. е. человечеству». (Там же. Т. 30. С. 435). Усмотрение и показ через искусство нового есть, по мысли Толстого, вовсе не такое условие искусства, которое желательно,
но без которого можно всё же обойтись: это условие совершенно непреложное, при отсутствии которого произведение не есть подлинное произведение искусства: «Как произведение мысли есть только тогда произведение мысли, когда оно передаёт новые соображения и мысли, а не повторяет то, что известно, точно так же и произведение искусства, когда оно вносит новое чувство (как бы оно ни было незначительно) в обиход человеческой жизни». (Там же. С. 85).
Ошибку всех господствующих эстетических теорий Толстой видел именно
в том, что теории эти, как думал он, недооценивают значение, какое для искусства имеет умение художника показать средствами своего искусства то новое, что открылось ему в явлениях человеческой жизни. «Все эти теории, — писал Толстой, — забывают одно главное: что ни значительность, ни красота, ни правдивость не составляют условий произведения искусства, что основное условие произведения есть сознание художником чего-то нового, важного.
И потому для настоящего художника, как всегда было, так и будет нужно, чтобы он мог видеть нечто совсем новое, а для того, чтобы художник мог видеть новое, ему нужно смотреть и думать, не заниматься в жизни пустяками, которые мешают внимательно вглядываться и вдумываться в явления жизни. Для того же, чтобы, во-первых, то новое, что он видит, было важно для людей, — художник должен жить не эгоистической жизнью, а принимать участие в общей жизни человечества». (Там же. С. 224).
«Ни в чём так не вредит консерватизм, — утверждал Толстой, — как в искусстве. Искусство есть одно из проявлений духовной жизни человека, и потому, как если животное живо, оно дышит, выделяет продукты дыхания, так если человечество живо, оно проявляет деятельность искусства. И потому в каждый данный момент оно должно быть — современное, — искусство нашего времени. Только надо знать, где оно. (Не в декадентах музыки, поэзии, романа).
Но искать его надо не в прошедшем, а в настоящем. Люди, желающие себя показать знатоками искусства и для этого восхваляющие прошедшее искусство — классическое и бранящие современное, этим только показывают, что они совсем не чутки к искусству». (Там же. Т. 53. С. 81).
Новизной выраженного в произведении искусства чувства, отношения художника к изображаемым явлениям определяется, по Толстому, сила действия, оказываемого искусством на людей. «Только поэтому, — поясняет Толстой, — и чувствуются так сильно детьми, юношами, произведения искусства, в первый раз передающие им неиспытанные ещё ими чувства». (Там же. Т. 30. С. 85).
Сознание своей способности открывать новое и неизвестное есть, по Толстому, черта, отличающая подлинного художника от дилетанта. Отличие это Толстой изобразил в «Анне Карениной». Настоящий художник, Михайлов, противопоставлен тут дилетанту Вронскому. «О своей картине, той, которая стояла теперь на его мольберте, у него (у Михайлова. — В.А.) в глубине души было одно суждение — то, что подобной картины никто никогда не писал. Он не думал, чтобы картина его была лучше всех Рафаэлевых, но он знал, что того, что он хотел передать и передал в этой картине, никто никогда не передавал. Это он знал твёрдо и знал уже давно, с тех пор как начал писать её...». (Там же. Т. 19.
С. 37—38). Напротив, дилетант не только сам неспособен к усмотрению и передаче нового, неизвестного, но неспособен и оценить эти качества подлинного искусства там, где они проявляются. Так, и Вронский, и его приятель, такой же дилетант, Голенищев, и Анна, — все находили, что картина, которую писал Вронский, «очень хороша, потому что была гораздо более похожа на знаменитые картины, чем картина Михайлова». (Там же. С. 46).
Неповторимое, только данному художнику открывшееся в`идение жизни предполагает неповторимость средств, при помощи которых это в`идение передаётся в произведении искусства.
Художник может узнать, пройдя курс художественной школы, каким образом решали свои, особые, ими одними поставленные задачи другие художники.
На как только перед ним возникает своя собственная задача, не совпадающая ни с одной задачей, выдвинутой другими художниками, ему придётся искать для её разрешения своих собственных, никем до него не испробованных и
не пройденных путей. Подлинное искусство поэтому всегда заключает в себе долю риска и неизвестности, так как, принимаясь за свою особую, неповторимую задачу, художник не может наперёд в точности знать, к какому результату его приведут его поиски и его движение по неизведанному пути. Как бы ни был труден и пугающ неизведанный путь, — для художника, если он только подлинный художник, нет другого выхода, кроме бесстрашного движения по своему пути. «...Делая, — разъяснял Толстой Е.И.Попову, — мы не можем знать, что выйдет ...». (Там же. Т. 65. С. 90). «Надо смело идти по неизвестному пути, который открывается, его узнаешь только, когда пойдёшь по нём». (Там же. С. 147).
Даже самым крупным, несомненным художникам Толстой не прощал порока банальности, отсутствия той неповторимости средств выражения, которая требуется новизной открывшегося им и ими познанного. «...Меня всегда удивляет
в Тургеневе, — писал Толстой, — как он с своим умом и поэтическим чутьём не умеет удержаться от банальности, даже до приёмов. Больше всего этой банальности в отрицательных приёмах, напоминающих Гоголя». (Там же. Т. 60. С. 325).
3. Искусство как изображение жизни трудового народа
Требуя от художника самоотверженного поиска нового, Толстой был далёк от мысли, будто новые, никем ещё не испытанные средства изображения и выражения могут быть найдены при помощи расширения одних лишь художественных приёмов, независимо от способности художника найти в самой изображаемой им жизни новое и достойное изображения содержание.
Неоскудевающим источником содержания, обновляющего приёмы и средства выражения, Толстой признал жизнь народа во всей полноте и во всём разнообразии её проявлений.
Этот свой взгляд — коренной для эстетики и для всего мировоззрения — Толстой с сознательной резкостью противопоставлял взгляду эстетиков «высших классов», не подозревавших даже всего богатства содержания, представляемого поэту, художнику жизнью народной. «Люди нашего кружка, эстетики, — писал Толстой, — обыкновенно думают и говорят противное. Помню, как писал Гончаров, умный, образованный, но городской человек, эстетик, говорил мне, что из народной жизни после „Записок охотника” Тургенева писать уже нечего. Всё исчерпано. Жизнь рабочего народа казалась ему так проста, что после народных рассказов Тургенева описывать там было уже нечего. Жизнь же богатых людей, с её влюблениями и недовольством собою, ему казалась полною бесконечного содержания. Один герой поцеловал свою даму в ладонь, а другой в локоть, а третий ещё как-нибудь. Один тоскует от лени, а другой оттого, что его
не любят. И ему казалось, что в этой области нет конца разнообразию. И мнение это о том, что жизнь рабочего народа бедна содержанием, а наша жизнь, праздных людей, полна интереса, разделяется очень многими людьми нашего круга. Жизнь трудового человека с его бесконечно разнообразными формами труда и связанными с ними опасностями на море и под землёю, с его путешествиями, общением с хозяевами, начальниками, товарищами, с людьми других исповеданий и народностей, с его борьбою с природой, дикими животными, с его отношениями к домашним животным, с его трудами в лесу, в степи, в поле,
в саду, в огороде, с его отношениями к жене, детям, не только как к близким, любимым людям, но как к сотрудникам, помощникам, заменителям в труде,
с его отношениями ко всем экономическим вопросам, не как к предметам умствования или тщеславия, а как к вопросам жизни для себя и семьи, с его гордостью самодовления и служения людям, с его наслаждениями отдыха, со всеми этими интересами... — нам, не имеющим этих интересов... нам эта жизнь кажется однообразной в сравнении с этими маленькими наслаждениями, ничтожными заботами нашей жизни не труда и не творчества, но пользования и разрушения того, что сделали для нас другие». (Там же. Т. 30. С. 86—87).
Но если подлинно новым может быть только содержание, почерпнутое
из жизни народа, и если значение искусства — в его способности быть средством общения людей, то отсюда следует, что подлинное искусство не может быть ни искусством исключительным, т. е. средством выражения и общения особой группы или класса, людей, отделённых от народа своим положением и особыми условиями жизни, ни искусством, непонятным для народа, доступным только узкому кругу людей, поставленных в особые условия, отделяющие их
от условий жизни народа.
Вся страсть и сила критики Толстого, с какой он обрушивается на современное ему искусство, т. е. искусство высших классов конца XIX и начала XX века, направлена не против новаторов искусства, но против исключительности и непонятности ненародного, группового, кружкового искусства, которое ошибочно отождествлялось с новаторством в искусстве.
Гениальность Толстого проявляется здесь в самом направлении его критики. Толстой метит не в те или другие частные, особенные и потому всегда спорные случаи или обнаружения исключительности и непонятности: его критика вскрывает самый глубокий, общий корень наблюдаемой им в искусстве исключительности и непонятности — отрыв искусства от жизни народной, превращение большого и серьёзного всенародного дела искусства в деятельность, имеющую целью доставлять наибольшее наслаждение известному, обособленному от народа условиями господства, роскоши и праздности кругу людей.
Толстой далёк от того, чтобы объявить антипатичное ему лично искусство, например искусство декадентов, дурным только потому, что оно непонятно тому поколению и тому кругу людей, к которому он сам принадлежал и которое было воспитано на искусстве начала XIX века.
Дело не в той или иной, всегда относительной, степени непонятности,
а в той общей тенденции развития искусства, которая своей основой имеет исключительность искусства высших классов, обособленных от жизни народа.
«Как только искусство высших классов, — писал Толстой, — выделилось
из всенародного искусства, так явилось убеждение о том, что искусство может быть искусством и вместе с тем быть непонятно массам». (Там же. С. 107).
Убеждение это Толстой считает одной из самых превратных и губительных для искусства ошибок эстетики. Если только допустить, что искусство может быть искусством, будучи непонятным в то же время людям, «так нет никакой причины какому бы то ни было кружку извращённых людей не сочинять произведения, щекочущие их извращённые чувства и непонятные никому, кроме их самих, называя эти произведения искусством, что собственно и делается теперь так называемыми декадентами». (Там же. С. 111).
По мысли Толстого, «великие предметы искусства только потому и велики, что они доступны и понятны всем». (Там же. С. 109). «Всё дело искусства, — разъяснял Толстой, — состоит только в том, чтобы быть понятным, чтобы сделать непонятное понятным, или полупонятное — вполне понятным тем его особенным, непосредственным путём заражения чувством, которое составляет особенность деятельности искусства. Все усилия художника должны быть направлены на то, чтобы быть понятным всем». (Там же. Т. 6. С. 67).
Самое допущение, будто произведение искусства, будучи непонятным, может быть замечательным произведением искусства, есть, по Толстому, противоречие, явная бессмыслица: «...Сказать, произведение искусства хорошо,
но непонятно, всё равно что сказать про какую-нибудь пищу, что она очень хороша, но люди не могут есть её. Люди могут не любить гнилой сыр, протухлых рябчиков и т. п. кушаний, ценимых гастрономами с извращённым вкусом,
но хлеб, плоды хороши только тогда, когда они нравятся людям. То же самое и с искусством: извращённое искусство может быть непонятно людям, но хорошее искусство всегда понятно всем». (Там же. Т. 30. С. 108).
Глубокая связь между качеством понятности и качеством правдивости превращает понятность в признак, граничащий с моральной характеристикой его автора.
В основе требования понятности стоит тесно связанное с ним требование правдивости. Понятное искусство правдиво, а правдивость — необходимейшее условие жизни и искусства. В искусстве, так думает Толстой, правдивость даже ещё более необходима, чем в жизни. «В жизни, — писал Толстой Страхову, — ложь гадка, но не уничтожает её гадостью, но под ней правда жизни потому, что чего-нибудь всегда кому-нибудь хочется, от чего-нибудь больно и радостно, но в искусстве ложь уничтожает всю связь между явлениями: порошком всё рассыпается».
Правдивость, верность действительному существу изображаемого есть свойство, до такой степени присущее искусству, что самый процесс создания художественного образа Толстой, в духе известной мысли Микеланджело, запечатлённой в его сонетах, рассматривает как снятие слоёв или покрова, скрывающего фигуру, которая существует независимо от глаз художника и его искусства в самом мраморе. Так, художник Михайлов, уловив при помощи счастливой случайности сущность рисуемой им фигуры, понимает, что вся его работа над образом — какие бы изменения он ни внёс затем в те или подробности её движения — состоит в «откидывании» того, что закрывало фигуру от взоров наблюдающего: «Можно было поправить рисунок сообразно с требованиями этой фигуры, можно и должно даже было иначе расставить ноги, совсем переменить положение левой руки, откинуть волосы. Но, делая эти поправки, он не изменял фигуры, а только откидывал то, что скрывало фигуру. Он как бы снимал с неё те покровы, из-за которых она не вся была видна...». (Там же. Т. 19. С. 37).
4. О реализме в искусстве
Взгляд Толстого, по которому предмет, изображаемый художником в произведении, как бы существует уже в натуре, в материале искусства — так что задача художника состоит только в том, чтобы умеючи и осторожно освободить предмет от облекающего его покрова, — взгляд этот непосредственно приводил Толстого к вопросу о реализме, к вопросу об отношении искусства и реальности.
Особенность толстовского реализма состоит в том, что — реализм,
не столько прямо изображающий предмет или явление, сколько изображающий их посредством передачи чувства, вызываемого предметом у автора. Знаменитое толстовское определение искусства как деятельности, состоящей
в намеренном воспроизведении особыми для каждого искусства средствами однажды испытанных автором чувств с целью передачи этих чувств другим людям, очень точно выражает свойственное Толстому понимание реализма. Толстовское искусство великолепно и с исключительной иллюзией реальности изображает природу, внешность человека, его внутреннюю жизнь, но изображает всё это в границах того, что может быть показано через призму чувства. Самый ум Толстого, если пользоваться условным термином переписки между Толстым и Фетом, был не «умом ума», но «умом сердца».
Односторонность и недостаточность толстовского определения искусства давно уже выяснены эстетикой и критикой. Общеизвестно, что узость этого определения привела Толстого к недооценке познавательной силы искусства,
к пренебрежению интеллектуальными средствами искусства.
Значение искусства не только в том, как ошибочно думал Толстой, что искусство «заражает» людей чувствами, которые художник пережил и, пережив, намеренно воспроизвёл их в своём произведении. Кроме того действия, которое искусство оказывает на чувство и которое Толстой особенно подчёркивает, искусство воздействует — посредством своих образов — на всю область наших представлений и идей. Искусство способно изменять в нас не только строй наших чувств, но и строй наших мыслей. Искусство изменяет степень и глубину наших знаний о жизни и её явлениях. Более того: искусство располагает особыми, ему одному принадлежащими средствами познания, сила которых в известных отношениях даже превосходит то, что может быть дано познанием научным. На это преимущество художественного познания указывал Энгельс. Так, Энгельс разъяснял, что из чтения и изучения «Человеческой комедии» Бальзака он «узнал больше (например, о перераспределении движимого и недвижимого имущества после революции), чем из книг всех специалистов — историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых». (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 37. С. 36). Познавательная сила искусства делает искусство одним из важнейших и могущественнейших средств идейного воспитания.
Толстой говорит и об этой познавательной стороне искусства. Но, увлечённый доказательством важности действия искусства на чувства, Толстой недооценил познавательную функцию искусства — не в своей художественной деятельности, а в своих эстетических высказываниях. Недостаток этот был в своё время отмечен Плехановым. Плехановская критика толстовского определения искусства указала на односторонность теоретических взглядов Толстого на искусство. Ошибка Толстого не в том, что он подчёркивает способность искусства действовать на чувства, а в том, что, правильно подчёркивая эту способность, Толстой недостаточно подчёркивает — в статьях об искусстве — то новое, что искусство вносит также и в область познания. Но эта односторонность, явно выступающая в эстетических формулах Толстого, несравненно менее присутствует и ощущается в практике реалистического искусства Толстого. Произведения Толстого — богатейший источник художественного познавательного опыта, далеко выходящего за пределы воздействия на одни лишь чувства.
Художественный талант Толстого оказался мудрее его рассудочной формулы.
Как реалист Толстой требует, чтобы произведение искусства порождало иллюзию подлинной жизни. В работе «О Шекспире и о драме» он даже определяет иллюзию как «главное условие искусства»: «Художественное, поэтическое произведение, в особенности драма, прежде всего должно вызывать в читателе или зрителе иллюзию того, что переживаемое, испытываемое действующими лицами переживается, испытывается им самим. А для этого столь же важно драматургу знать, чт`о именно заставить и делать и говорить свои действующие лица, сколько и то, чего не заставить их и говорить и делать, чтобы не нарушить иллюзию читателя или зрителя». (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. Юбилейное изд. (1828—1928). — М.-Л.: Госиздат, 1928—1955. Т. 35. С. 250).
Художественная иллюзия предполагает полную над всеми слишком личными, субъективными, предвзятыми пристрастиями художника и означает способность открыть в изображаемом самый предмет таким, каков есть. «Художник, — писал Толстой в предисловии к сочинениям Мопассана, — только потому и художник, что видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть. Носитель таланта — человек может ошибаться, но талант, если ему только будет дан ход, как давал ему ход Мопассан в своих рассказах, откроет, обнажит предмет и заставит полюбить его, если он достоин любви, и возненавидеть его, если он достоин ненависти». (Там же. Т. 30. С. 20).
5. Критика натурализма в искусстве.
Роль детали в художественном произведении
Требование полноты и совершенства иллюзии вовсе не означает, что в самом изображении предмета художник должен стремиться закрепить всё, что есть в предмете, и закрепить таким, каково оно есть. Увидеть предмет так, как он есть, не значит ещё изобразить его в произведении искусства таким, каков он есть, натуралистически. Художник должен победить и искоренить из своей субъективности то, что заслоняет от него предмет, мешает ему видеть предмет. Но это не значит, что художник должен или вправе отрешиться от осознания и выявления своего отношения к увиденному и показанному через искусство предмету. Напротив, та иллюзия реальности, без которой нет искусства, только тогда и может возникнуть — такова мысль Толстого — если у автора имеется твёрдое, нравственное, как его называет Толстой, отношение к предмету. «...Цемент, — писал Толстой, — который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету». (Там же. С. 18—19).
Но именно поэтому, победив в себе субъективную предвзятость, увидев предмет таким, каков он есть, художник не может удовлвориться изображением его, каков он есть. Ибо не всё из того, что есть, существует таким, каким оно должно бы было быть.
«Все словесные сочинения и хороши, и нужны, — пояснял Толстой, — не тогда, когда они описывают что было, а когда показывают, что должно быть; не тогда, они рассказывают то, что делали люди, а когда оценивают хорошее и дурное...». (Там же. Т. 26. С. 308). «...Нельзя описывать только то, что бывает в мире. Мир лежит во зле и соблазнах. Если будешь описывать много лжи, и в словах твоих не будет правды. Чтобы была правда в том, что описываешь, надо писать не то, что есть, а то, что должно быть... От этого и бывает, что есть горы книг, в которых говорится о том, что точно было или могло быть, но книги эти всё ложь, если те, кто их пишут, не знают сами, что хорошо, что дурно...». «И бывает то, что есть сказки, притчи, басни, легенды, в которых описывается чудесное, такое, чего никогда не бывало и не могло быть, и легенды, сказки, басни эти правда...». (Там же. С. 308). «Такая история вся невероятная, потому что ничего , того, что описывается, не бывало и не могло быть; но она вся правда, потому что в ней показывается то, что всегда должно быть, в чём добро, в чём зло...». Там же. С. 309). «...Для того, чтобы производить то, что называется произведениями искусства, надо ... чтобы человек ясно, несомненно знал, что добро, что зло, тонко видел разделяющую черту и потому писал бы не то, что есть, а то, что должно быть». (Там же. Т. 64. С. 19).
Именно потому, что талант, как его понимает Толстой, есть способность «видеть вещи в их сущности», подлинное искусство не может быть натуралистическим. Способность видеть сущность предмета предполагает, что всё второстепенное, побочное, т. е. как раз то, что в непосредственном натуралистическом восприятии часто выдвигается на первый план и заслоняет сущность, должно быть подчинено главному, основному, решающему. Поэтому художественное произведение, заслуживающее этого названия, есть не натуралистическая копия, но всегда и непременно — определённое подчинение или, как выражается Толстой, «иерархия», т. е. гармоническая правильность в распределении изображаемых в произведении предметов.
Именно за высокое совершенство в осуществлении этой «иерархии» Толстой ценил прозу Пушкина, особенно «Повести Белкина», а также ценил эпос Гомера. «Область поэзии бесконечна, как жизнь, — писал Толстой Голохвастову, — но не все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии и смешение низших с высшими или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства... Чтение даровитых, но не гармонических писателей (то же музыка, живопись) раздражает и как будто поощряет к работе и расширяет область; но это ошибочно; а чтение Гомера, Пушкина сжимает область и, если возбуждает к работе, то безошибочно». (Там же. Т. 62. С. 22).
Свойство это Толстой не только ценил в великих поэтах прошлого. Этого свойства — гармонического распределения предметов — он прежде всего добивался и в практике собственного искусства. «Главное, — разъяснял он Фету, — ...в расположении частей относительно фокуса, и когда правильно расположено, всё ненужное, лишнее само собою отпадает, и всё выигрывает в огромных степенях». (Там же. С. 441).
Отвергая натуралистическую подробность как несовместимую с «иерархией» или гармоническим расположением частей подлинно художественного произведения, Толстой отнюдь не отвергал подробность как одно из средств, усиливающих действие целого. Подробность, так думал Толстой, может быть чрезвычайно ценным орудием искусства — при условии, если она есть не бессмысленная натуралистическая копия, но черта, сознательно выделенная художником, так как она проливает свет на целое, помогает осмыслить то, что по своему значению гораздо больше, шире и значительнее, чем самая эта подробность.
Только поисками смысла целого может быть оправдана деталь в искусстве.
«В поэзии эта страсть к изображению того, что есть, происходит оттого, что художник надеется, ясно увидав, закрепить то, что есть, понять смысл того, что есть».
Анализируя сцену из романа Поленца «Крестьянин», Толстой обращает внимание на одну введённую автором в сцену деталь. «Такая подробность, — разъясняет Толстой, — освещая внутреннюю жизнь этой жены и этого мужа, освещает для читателя внутреннюю жизнь миллионов таких же мужей и жён, и прежде живших и теперь живущих...». (Там же. Т. 34. С. 272). Такого рода подробности Толстой
не только допускал, но чрезвычайно ценил. В этом смысле Толстой писал Е.И.Попову: «Чем больше подробностей, сцен, тем лучше». (Там же. Т. 67. С. 122).
Напротив, всякая подробность, отводящая читателя в сторону от основного смысла сцены, положения, действия, произведения или заслоняющая этот смысл, рассматривалась Толстым как непростительная ошибка художника и искусства. «В повествовании об Иосифе, — разъяснял Толстой, — не нужно было описывать подробно, как это делают теперь, окровавленную одежду Иосифа и жилище и одежду Иакова, и позу и наряд Пентефриевой жены, как она, поправляя браслет на левой руке, сказала: «Войди ко мне», и т. п., потому что содержание чувства в этом рассказе так сильно, что все подробности, исключая самых необходимых, как, например, то, что Иосиф вышел в другую комнату, чтобы заплакать, — что все эти подробности излишни и только помешали бы передать чувство, а потому рассказ этот доступен всем людям, трогает людей всех наций, сословий, возрастов, дошёл до нас и проживёт ещё тысячелетия. Но отнимите у лучших романов нашего времени подробности, и что же останется?». (Там же. Т. 30. С. 162).
Именно для достижения иллюзии реальности — этого необходимого условия искусства — натуралистическая деталь должна быть изгоняема из произведения. «Можно, не нарушая иллюзии, не досказать многого — читатель или зритель сам доскажет, а иногда вследствие этого в нём ещё усилится иллюзия, но сказать лишнее всё равно, что, толкнув, рассыпать составленную из кусочков статую или вынуть лампу из волшебного фонаря, — внимание читателя или зрителя отвлекается, читатель видит автора, зритель — актёра, иллюзия исчезает, и вновь восстановить иллюзию иногда бывает уже невозможно». (Там же. Т. 35. С. 267).
Мысли эти были для Толстого мерилом при оценке работ самых крупных художников. Так, Лескова, которого Толстой и в старости очень любил, восхищаясь его талантом, вдохновением, он упрекал за «излишек таланта». «...Ваш особенный недостаток, — писал он Лескову, — exuberance образов, красок, характерных выражений, которая вас опьяняет и увлекает. Много лишнего, несоразмерного...». (Там же. Т. 65. С. 198).
Но не иным был и принцип собственного творчества Толстого — реалистического, но не натуралистического, творчески комбинирующего впечатления, отбирающего характерное, подчинённого чувству меры, которому Толстой учился и у греков, и у французов классического периода, и у Пушкина.
С гордостью истинно великого художника Толстой отвергал наивные догадки некоторых читателей о портретности персонажей в его романах. «Андрей Болконский, — разъяснял он княгине Волконской, — никто, как и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать потрет, разузнать, запомнить». (Там же. Т. 61. С. 80).
Натуралистическое копирование представлялось Толстому делом не только ложным по существу, но, кроме того, слишком лёгким, недостойным той серьёзности и трудности, которая составляет гордость, радость и мучение подлинного художника. Напротив, в произведениях подлинного реалистического искусства Толстой ценил их способность расширять опыт, знание жизни — не показом ничтожных и потому никому не нужных подробностей, не простым повторением того, что бывает в жизни, а таким изображением, которое, не будучи самим опытом жизни, приближает человека к пониманию её явлений. По разъяснению Толстого, удовольствие, доставляемое произведениями искусства, состоит «именно в том, что человек не испытывает всего того трения жизни, которое отравляет и уменьшает наслаждения действительной жизни, а между тем получает все те волнения жизни, которые составляют её сущность и прелесть и получает их с тем большей силой, что ничто не мешает им. Благодаря искусству человек безногий или дряхлый испытывает наслаждение пляски, глядя
на пляшущего художника-скомороха; человек, не выходивший из своего северного дома, испытывает наслаждение южной природой, глядя на картину; человек слабый, кроткий испытывает наслаждение силы и власти, глядя на картину, читая или глядя на театре поэтическое произведение или героическую музыку; человек холодный, сухой, никогда не жалевший, не любивший, испытывает наслаждение любви, жалости». (Там же. Т. 30. С. 252—253).
6. О сущности и значении формы в искусстве
Сознание невозможности удовлетвориться в искусстве простым перенесением в произведение черт предмета такими, каковы они в натуре, в жизни,
а также сознание трудности, с какой в искусстве создаётся подлинная иллюзия реальности, выдвигало перед Толстым вопрос о мастерстве, о технике, о форме в искусстве.
Искусство всегда было в глазах Толстого нелёгким делом, требующим
от художника самоотверженного и неутомимого труда.
Первым источником трудности в деле искусства Толстой признал своеобразие той формы мышления, какую представляет искусство. Хотя художник необходимо передаёт в произведении мысли, выражающие его отношение к изображаемым явлениям жизни, произведение искусства отнюдь не равносильно простому соединению мыслей, пусть даже самых истинных и глубоких.
С исключительной силой это своё понимание своеобразия художественного мышления, невозможность свести смысл художественного произведения
к простому ряду суждений — как бы проницательны и верны они ни были — Толстой выразил в письме к Страхову от 26 апреля 1876 года. «...Ваше суждение
о моём романе, — писал Толстой Страхову, — верно, но не всё, т. е. всё верно, но то, что вы сказали, выражает не всё, что я хотел сказать». (Там же. Т. 62. С. 268).
«Если же бы я хотел сказать словами всё то, что имел в виду выразить романом, то я должен был написать роман тот самый, который я написал сначала... Во всём, почти во всём, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцеплённых между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берётся одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно словами, — описывая образы, действия, положения». (Там же. С. 269).
Настоящее художественное произведение, пояснял Толстой ту же мысль
в «Предисловии к роману В. фон Поленца «Крестьянин», есть «произведение,
в котором автор говорит про то, что ему нужно сказать... не рассуждениями...
а тем единственным средством, которым можно передать художественное содержание: поэтическими образами...». (Там же. Т. 34. С. 270).
В художественном произведении мысль не перестаёт быть мыслью, но, сохраняя за собой всё своё значение мысли, становится элементом неделимого целого, которое есть уже не отвлечённая только мысль и которое действует на народ не только непосредственным содержанием заключающихся в нём мыслей.
Поэтому одно достоинство мыслей, вложенных драматургом в уста действующих лиц, не решает ещё вопроса о достоинстве драматического произведения как произведения искусства. «Мысли и изречения, — писал Толстой, —
в прозаическом произведении, в трактате, собрании афоризмов, но не в художественном драматическом произведении, цель которого — вызвать сочувствие к тому, что представляется». (Там же. Т. 35. С. 250). В драматическом произведении мысли оказываются неотделимыми от целого элементами драмы,
а условия всякой драмы «заключаются в том, чтобы действующие лица были, вследствие свойственных их характерам поступков и естественного хода событий, поставлены в такие положения, при которых, находясь в противоречии
с окружающим миром, лица эти боролись бы с ним и в этой борьбе выражали бы присущие им свойства». (Там же. Т. 35. С. 237).
Уяснение своеобразной функции мысли в произведении искусства приводит к уяснению своеобразных трудностей, которые возникают перед художником в процессе создания произведения. Если «основу сцепления мыслей» нельзя выразить «непосредственно словами», а можно «только посредственно словами, описывая образы, действия, положения», то это значит, что в каждом особом случае художник должен найти то неповторимое сочетание сцен, событий, положений, дифференциалов выражения — брюловских «чуть-чуть», — которое одно может выразить задуманное им «сцепление мыслей».
Не раз с искренностью и откровенностью великого художника Толстой говорит о трудности этой работы. «Вы не можете себе представить, — писал он Фету в разгаре трудов над „Войной и миром”, — как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принуждён сеять. Обдумать и передумать всё, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать мильоны возможных сочетаний, для того, чтобы выбрать из них 1/1 000 000 — ужасно трудно». (Там же. Т. 61. С. 240).
Толстой знал, что для победы над этими трудностями необходимо мастерство, совершенство формы: «Чтобы говорить хорошо то, что он хочет говорить (под словом „говорить” я разумею всякое художественное выражение мысли), художник должен овладеть мастерством. А чтобы овладеть мастерством, художник должен много работать».
Толстой требовал от искусства мастерства и радовался этому качеству в художниках. Ценя идейные замыслы живописца Н.Н.Ге, Толстой опасался, как бы недостатки техники, формы не помешали действию его произведения на людей. «...Только бы вы по технике, — уговаривал он Ге, — удовлетворили требованиям художнической толпы. Если уже выставка и большая картина, то надо считаться с этим». (Там же. Т. 66. С. 325). Высоко ценя Тютчева и Баратынского, он всё же находил в Баратынском сравнительно с Тютчевым недостаток исполнения: «Баратынский настоящий, хотя мало красоты, изящества...». (Там же.
Т. 62. С. 295). Красоту формы Толстой включает в своё определение трёх основных, кроме таланта, условий истинного художественного произведения, помещая требование прекрасной формы на втором месте после требования правильного отношения автора к предмету. (См.: там же. Т. 30. С. 7).
Восхищаясь качеством формы в вещах Мопассана, Толстой особенно выделял в этом отношении форму романа «Жизнь». «Форма, — писал Толстой о романе Мопассана, — прекрасная и в первых рассказах, здесь доведена до такой высокой степени совершенства, до которой не доходил, по моему мнению,
ни один французский писатель-прозаик». (Там же).
Необходимое для каждого художественного произведения качество новизны есть, по разъяснению Толстого, не только новизна выражаемого содержания, но также и новизна формы, посредством которой найденное впервые содержание может быть выражено. Мысль эту Толстой, согласно свидетельству А.Б.Гольденвейзера, выразил так: «Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразным, то так же и их форма. Как-то
в Париже мы с Тургеневым вернулись домой из театра и говорили об этом, и
он совершенно согласился со мной. Мы с ним припоминали всё лучшее в русской литературе, и оказалось, что в этих произведениях форма совершенно оригинальная. Не говоря уже о Пушкине, возьмём „Мёртвые души” Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное. „Записки охотника“ — лучшее, что Тургенев написал. Достоевского „Мёртвый дом“, потом, грешный человек, — „Детство“, „Былое и думы“ Герцена, „Герой нашего времени“...». (Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. — М.: Госполитиздат, 1959. С. 116).
Но как ни ценил Толстой качество формы в художественных произведениях, он был далёк от мысли, будто основная трудность искусства — нахождение единственно правильного и от произведения к произведению меняющегося сочетания характеров, положений, сцен, действий — может быть преодолена совершенствованием одной лишь формы, одной лишь техники.
Более того. Так как каждое произведение есть, по Толстому, неделимое целое, отвечающее в каждом случае совершенно неповторимой задаче, и так как мысли не могут быть оторваны в нём от образов, положений, действий, нераздельными элементами которых мысли являются, то и самая «техника» каждого отдельного произведения есть, в сущности, не что иное, как само это произведение, во всей особенности и неповторимости его содержания, нераздельно слитых с ним и характерных для него средств выражения, способов построения художественного целого и т. д.
В «Анне Карениной» Толстой с редкой силой проникновения показывает ошибочность обычного взгляда, противопоставляющего технику произведения его внутреннему достоинству, т. е. содержанию. Когда приехавшие к живописцу Михайлову дилетанты похвалили технику его картины, Михайлов «вдруг насупился». «Он часто слышал это слово техника и решительно не понимал, что под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы; но искусства писать, техники тут никакой не было. Если бы малому ребёнку или его кухарке также открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылущить то, что она видит. А самый опытный и искусный живописец-техник одною механическою способностью не мог бы написать ничего, если бы ему
не открылись прежде границы содержания». (Там же. Т. 19. С. 42).
Уяснение невозможности создать произведение подлинного искусства, если «не открылись прежде границы содержания», особенно необходимо потому, что в дурных или мнимых произведениях искусства качество отделки, внешней формы, может быть и часто бывает даже лучшим, чем в произведениях настоящего искусства.
Как же отличить в подобных случаях подлинное произведение от поддельного? Отличие возможно для того, кто, так же как настоящий художник, не может вступить в общение произведением искусства, прежде чем ему «не открылись границы содержания».
Такой требовательностью к произведениям искусства и непогрешимой чуткостью мерила отличается отношение к искусству, свойственное народу. Поэтому искусство будущего, которое представлялось Толстому как искусство, творимое народом и для народа, не испытает, так думал Толстой, никакого ущерба, если оно откажется от слишком сложной техники, характерной для исключительного, неспособного быть всенародным искусства господствующих классов современного общества. «Деятельность художественная, — писал Толстой, — будет тогда доступна для всех людей. Доступна же делается эта деятельность людям из всего народа потому, что ... в искусстве будущего не только не будет требоваться та сложная техника, которая обезображивает произведения искусства нашего времени и требует большого напряжения и траты времени, но будет требоваться, напротив, ясность, простота и краткость, — те условия, которые приобретаются не механическими упражнениями, а воспитанием вкуса». (Там же. Т. 30. С. 180).
7. Искусство должно стать всенародным
Толстой не боялся того, что предвиденное движение искусства к народности, к ясности, простоте снизит «технику» искусства. С огромной верой в художественную силу народа, в его художественный вкус и такт Толстой предсказывал, что известное ослабление техники, неизбежное при превращении искусства в искусство всенародное, не нанесёт никакого ущерба действительному достоинству и действительной силе искусства. Строго говоря, ни о каком ослаблении техники здесь не может быть и речи. Техника ослабевает лишь с точки зрения требований эстетов, снобов. «Она, несомненно, ослабеет, — писал Толстой, — если под техникой разуметь те усложнения искусства, которые теперь считаются достоинством; но если под техникой разуметь ясность, красоту и немногосложность, сжатость произведений искусства, то техника не только
не ослабеет, как это показывает всё народное искусство, но в сотни раз усовершенствуется... Она усовершенствуется потому, что все гениальные художники, теперь скрытые в народе, сделаются участниками искусства и дадут ... образцы настоящего искусства, которые будут, как всегда, лучшею школой техники для художников». (Там же. С. 181).
Толстой хорошо знал искусство, его внутренние трудности, сложные законы его развития во времени. Утверждая неизбежность перехода искусства к высшему типу всенародного искусства, он в то же время думал, что даже после устранения социальных причин, препятствующих искусству в обществе, основанном на угнетении, стать всенародным, потребуется известное время для того, чтобы из искусства, создавшегося людьми, поставленными в исключительные и отделённые от народной жизни условия, стать искусством народным в действительном значении слова. Уже в начале 70-х годов Толстой ощущал состояние тогдашней русской литературы как упадок, даже как смерть, но смерть «с залогом возрождения в народности». «Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии, — писал Толстой Страхову, — связь между этими двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении: упадок поэтического творчества всякого рода — музыки, живописи, поэзии — и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода — музыки, живописи и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть с залогом возрождения в народности. Последняя волна поэтическая — парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа и выплывет... Счастливы те, кто будет участвовать в выплывании. Я надеюсь». (Там же. Т. 61. С. 274—275).
Толстому не было суждено дожить до исполнения своего предсказания —
до времени, когда возможность общего движения искусства к всенародности стала — благодаря нашей революции — действительностью.
Современное искусство народов Советского Союза развивается как искусство всенародное. И если Толстой радовался счастью тех, кому суждено будет увидеть уже не «залог» только возрождения, но самое возрождение народности, то мы, люди Советской страны, счастливы сознанием, что наш величайший писатель предсказал это возрождение искусства в народности, страстно желал его и наперёд радовался часу его приближения.
Источник: Асмус В.Ф. Избранные философские труды. Т. I. —
Издательство Московского университета, 1969. С. 72—101.
Версия для печати