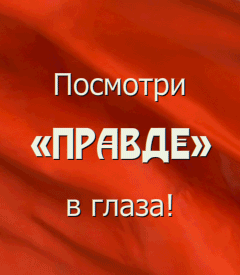С.Н.Мареев Либерализм и демократия в России.
МАРЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доктор философских наук, профессор.
В России XIX века либералов не любили. Либерал — это, во-первых, безродный космополит, а, во-вторых, тогда, как и сейчас, либерализму присуще краснобайство. Люблю комфорт, но это не мешает мне быть либералом, говорит один из персонажей «Мёртвых душ» Гоголя. И Собакевич у него гораздо более симпатичная и демократическая личность, потому что предпочитает всяческим либеральным котлеткам бараний бок с кашей. Можно сказать, что вся русская литература в то время в России была и демократической, и национальной. И это не только Гоголь, но и Пушкин, и Тургенев, которому присущи некоторые либеральные наклонности, но всё-таки его «Записки охотника» полны любви и сочувствия к мужикам, как тогда выражались. А его Евгений Базаров из «Отцов и детей» — образец и идеал демократа. Ну и, конечно, Николай Некрасов, который был просто поэтом народной скорби,
то есть глубоко демократическим писателем. Что касается народнических писателей, то Г.Успенский и В.Короленко — демократы, так сказать, по определению.
Как демократ и антилиберал выступил замечательный русский писатель Н.С.Лесков, который и сейчас мало читаем у нас. Но это уже про литературные достоинства его творчества. Что же касается антилиберализма Лескова, то он наиболее выпукло проявился в романе «Соборяне», в котором выразитель демократии — православное духовенство, преисполненное любви к России и её народу. «О моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!» — восклицает один из соборян.
В те времен, как уже сказано, либералов не любили не только за космополитизм, но за присущее им краснобайство и претензию на просвещение. Один из таких «просветителей» — учитель Варнава Препотенский, который отрицает христианские чудеса, что «Жезл Ааронов не мог расцвесть». И с просветительскими целями он вываривает покойника, демонстрируя, что кости у человека есть, а души никакой нет. Этот вульгарный материализм возмущает духовенство, потому что если
у человека нет души, то в чём собственно коренится человеческая нравственность? «Да там и во всем, — говорит Варнава, — бездна противоречий». Мало того, «добыв у кого-то из раскольников весьма распространённую книжечку с видами, где антихрист изображен архиереем в нынешнем облачении, изъяснял, что Христос был социалист, а мы, попы и архиереи, как сему противимся, то мы и есьмы антихристы». (Лесков П.С. Собр. соч. в 11 тт. Т. 4. — М.: Художественная литература, 1957. С. 76. Далее цитируется по указ. изданию).
На почве костей Варнава Препотенский входит в конфликт со своей матерью-просвирней, которая уговаривает сына похоронить «его». Варнаву Препотенского называют «вольтерьянцем» (С. 78). А в те времена в России «вольтерьянец» означало то же самое, что либерал.
Но тут как раз важно, что либерализм уже во Французском Просвещении расходится с демократией в том смысле, в каком народ — это, прежде всего, простой народ. И Руссо пишет: «Меня особенно возмущает презрение, с каким Вольтер при каждой возможности говорит против бедных». (См.: Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. — М.: Мысль, 1984, С. 90).
Характерная черта либерализма — это именно презрение к бедным: бедные у них ленивы и носители всех пороков. А потому демократия — это, прежде всего, отношение к народным низам. Варнава даже родной матери не может простить её невежества. «Горе мое, Валерьян Николаевич, — жалуется он, — началось с минуты моего рождения… и заключается это горе главным образом в том, что я рожден моею матерью!». (С. 101). «Теперь говорят, — продолжает жаловаться на мать Варнава, — будто я мою мать честью не урезониваю. Неправда-с! Напротив,
я ей говорил: „Маменька, не трогайте костей, это глупо; вы, говорю,
не понимаете, они мне нужны, я по ним человека изучаю”. Ну а что вы
с нею прикажете, когда она отвечает: „Друг мой, Варнаша, нет, всё-таки лучше я его схороню…”. Ведь это же из рук вон!». (Там же).
Вокруг костей заворачивается целый детектив: то мать крадет у сына кости и хоронит их, то сын снова их откапывает и пытается сохранить для своего «просвещения». Варнава за естественные науки, которые стали входить в моду в России именно в первой половине ХIХ века. Одна женщина, сторонница Варнавы, жалуется: «А с другой стороны, посудите, и там, в Петербурге, какая пошла подлость; даже самые благонамереннейшие газеты начинают подтрунивать над распространяющеюся у нас страстью к естественным наукам». (С. 110).
Уже в ХХ веке Ленин скажет, что перенос методов естествознания
на понимание общества есть позитивизм. И позитивизм не только
не может объяснить общественные явления, но также и явления душевные. А человек должен жить, как это показал ещё Сократ, по совести. Понятно, что никакой совести в костях нет и в мозгах тоже. Мать не верит, что её сын переменится, когда женится. «Нет, — отвечает мать, — как его, дружок, возможно женить? Невозможно. Он уж весь до сих пор, до бесконечности извертелся; в господа бога не верит до бесконечности; молоко и мясо по всем постам, даже в страшную неделю ест до бесконечности; костей мёртвых наносил домой до бесконечности,
а я, дружок мой, правду вам сказать, в вечернее время их до бесконечности боюсь; всё их до бесконечности тревожусь… Я была его счастливая мать, и он прежде ко мне был добр даже до бесконечности, пока
в шестой класс по философии перешёл. Он, бывало, когда домой приезжал, и в церковь ходил, и к отцу Савелию его водила, и отец Савелий даже его до бесконечности ласкали и по безделице ему кое-чем помогали, но тут вдруг — и сама не знаю, что с ним поделалось: всё начал умствовать. И с тех пор. как приедет из семинарии, всё раз от разу хуже да хуже, и, наконец, даже так против всего хорошего ожесточился, что на крестинах у отца Захарии зачал на самого отца протопопа метаться. Ах, тяжело это мне, душечки! — продолжала старушка, горько сморщившись. — Теперь опять я третьего дня узнала, что они с акцизничихой, с Бизюкиной, вдруг в соусе лягушек ели! Господи! Господи! Каково это матери вынести?». (С. 112—113). Да, либеральных лягушек уже вынести невозможно. Но мать права: умственность свою демонстрировать вовсе не обязательно. И Варнава ещё не знает основной либеральной моральной нормы — терпимости.
Либерализм — позиция формального права, а точка зрения демократии — справедливость. «Недостаточность и неточность сведений
о душе. — пишет Лесков. — Непонимание натуры человека, и проистекающее отсель бесстрастное равнодушие к добру и злу, и кривосудство о поступках: оправдание неоправдимого и порицание достойного. Моисей, убивший египтянина, который бил еврея, не подлежит ли осуждению с ложной точки зрения иных либералов, осуждающих горячность патриотического чувства? Иуда-предатель с точки зрения „слепо почивающих в законе” не заслуживает ли награды, ибо он „соблюл закон” предав учителя, преследуемого правителями». (С. 231). Один
из либералов «заговорил о национальном фанатизме и нетерпимости». (С. 77). Но это осталось за либерализмом.
Либерализм — это приверженность формальному праву. Но вопрос о справедливости не решается формальным правом. (С. 20). Наши либералы 90-х годов выдавали себя за «демократов». И это дало повод покойному поэту Е.Евтушенко произнести такие слова: «Ах демократ,
ах демократ, какое слово ты изгадил!». Хотя и Евтушенко не очень-то отличал демократию от либерализма. А вот великий русский демократ Николай Гаврилович Чернышевский эти вещи различал: «У либералов и демократов, — писал он, — существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой — дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти всё равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудности равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно, к праву свободной речи и конституционному устройству… Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному — аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократам смертельную неприязнь, говоря, что
демократизм ведет к деспотизму и гибели для свободы». (Цит. по: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 558—559).
Либералы за свободу, но против равенства. Но и свободу они понимают формально. Чернышевский именно так и раскрывает суть дела. «С теоретической стороны, либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливой судьбой от материальной нужды: свобода — вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом. Она для него состоит
в отвлечённом праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека есть материальные средства пользоваться этим разрешением». (Там же. С. 559). Понятно, что построить себе роскошный дом каждый имеет право, никому такого закон не запрещает. Но не каждый имеет материальные возможности это сделать. И если у меня нет ни гроша, то какой мне толк от этого права, и от этой «свободы».
За либерала у нас пытаются выдать последователя Чернышевского Александра Ивановича Герцена, который писал про русских либералов, что «аристократы их презирают, попы ненавидят, народ не знает». (Герцен А.И. Соч. в 2-х тт. Т. 2. — М., 1986. С. 312). «Великие стихийные ураганы, — читаем мы у Герцена о революционной эпохе XVII—XVIII столетий, — поднимавшие всю поверхность западного моря, превратились
в тихий морской ветерок, не опасный кораблям, но способствующий
их прибрежному плаванью. Христианство обмелело и успокоилось
в покойной и каменистой гавани Реформации; обмелела и революция
в покойной и песчаной гавани либерализма. Протестантизм, суровый
в мелочах религии, постиг тайну примирения церкви, презирающей блага земные, с владычеством торговли и наживы. Либерализм, суровый в мелочах политических, умел соединить ещё хитрее постоянный протест против правительства с постоянной покорностью ему». (Там же. С. 394—395).
Эту позицию по отношению к правительству, помнится, в начале нашей новой капиталистической эпохи выражали либеральные политиканы, когда они обсуждали проблему: как бы нам, будучи как бы в оппозиции, вместе с тем не выступать революционно против этого правительства. Иначе говоря, либералы хотят быть как бы босиком и, вместе
с тем, как бы обутыми. «Колеблющаяся среда либерализма, — пишет Герцен, — основанная на освобождающемся разуме и держащаяся
за обязательные предания, — среда неискренняя, полная страхов и угрызения совести, в которой сосредоточивается вся деятельная сила Франции, падает из ошибки в ложь, из лжи в ошибку. Она не верит и поддерживает католицизм, она боится социализма и хлопочет о народном образовании, она не имеет храбрости открыто звать на помощь невежество и великую узду голода. Из такого нравственного сумбура жизнь не может осесть серьёзно, а беспрерывно расползается, чинится, меняется, беспрерывно торопится, не зная куда, зачем, в каком-то чаду противоречий». (Там же. С. 468).
Герцен пишет: «Либералы были удовлетворены. Но народ не был удовлетворен, но народ теперь поднял свой голос, он повторял их слова, их обещания, а они, как Пётр, троекратно отреклись и от слов и
от обещания, как только увидели, что дело идёт не на шутку, — и начали убийства». (Там же. С. 40—41). В июне 1948 года французские либералы силами национальной гвардии и так называемых мобилей расстреляли свой народ, при помощи которого они свергли монархию Людовика-Филиппа. В 1917 году аналогичная история повторилась в России. А некоторые говорят: Герцен был либерал. Но разве это слова либерала: «Вечером 26 июня мы услышали, после победы „Насионаля” над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками… Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые… „Ведь это расстреливают”, — сказали мы в один голос и отвернулись другу от друга.
Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. Горе тем, кто прощают такие минуты!». (Там же. С. 32).
Конечно, Герцен демократ. Даже революционный демократ. Не говоря уже о том, что он социалист, автор концепции русского социализма. И как бы ни был утопичен этот русский крестьянский артельный социализм, всё равно это не либерализм.
Вот что писал в своё время отец американской демократии Томас Джефферсон: «Мы считаем самоочевидными следующие истины: что все люди созданы равными, что они наделены Создателем определёнными неотъемлемыми правами, среди которых имеется право на жизнь, свободу и на стремление к счастью». (Цит. по: Гайдар Е. Государство и эволюция. — М., 1995. С. 203). Иначе говоря, демократы и гуманисты прошлого считали равенство самоочевидным: без равенства нет справедливости. «Равенство есть начало справедливости», — утверждал Сенека. (Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Письмо 30). У П.А.Кропоткина равенство «означает то же, что и справедливость». (Цит. по: Эльцбахер П. Сущность анархизма. — Минск — Москва, 2001. С. 130).
Что касается наших нынешних «демократов», которые по сути либералы, то они считают столь же самоочевидным неравенство людей. И самый простой довод, который здесь приводится, это закон дифференциации Лейбница: нет на свете двух совершенно одинаковых вещей, даже двух одинаковых листьев на дереве. Все люди неодинаковые, — кричит современный образованный обыватель, обуреваемый чувством собственного превосходства. И при этом путает разные вещи: одинаковость и равенство.
Действительно, мужчина и женщина не одинаковы, даже противоположны, но они могут обладать одинаковыми правами. То же самое чернокожий и белый, взрослый и ребёнок. Ведь речь идёт не об антропологическом, а о социальном равенстве, равенстве прав на жизнь, свободу и стремление к счастью. Но подменять одно другим — социальное равенство антропологическими различиями — излюбленный приём современных апологетов неравенства — либералов. Именно с этой целью и была создана в ХХ веке так называемая «философская антропология».
В прошлом демократы не путали антропологическое и социальное неравенство. Когда Руссо писал «О происхождении неравенства»,
то было совершенно очевидно, что имеется в виду социальное неравенство, то есть неравенство в «цивилизованном» обществе, которое появилось в связи с общественно-историческими изменениями при переходе от «естественного» состояния к «гражданскому». А в «естественном» состоянии все были равны. Поэтому общественный идеал и оказался у Руссо не впереди, а позади. И если человечество может
к нему прийти, то лишь вернувшись в определённом отношении к «естественным» формам жизни. Именно так доказывал Руссо противоестественность неравенства.
И другой демократ И.-Г.Фихте прямо говорит об этом: «За неравенство, возникшее случайно, без нашего содействия, физическое неравенство, пусть отвечает природа; неравенство сословий кажется моральным неравенством; по поводу него возникает поэтому совершенно естественный вопрос: по какому праву существуют различные сословия?». (Фихте И.-Г. Соч. в 2 тт. Т. II. — СПб., 1993. С. 31). Иначе говоря, по какому праву одни люди считают себя выше других? Вопрос ставится именно о праве, а не о природе, на которую либералы хотят свалить вину за существующее в обществе неравенство. Поскольку природа
не может быть ни в чем виновата, ведь она совершенно невменяема,
не с кого и спрашивать, и неравенство людей оказывается таким образом «естественным».
Для демократов прошлого равенство людей было самоочевидным, потому что они от имени буржуазии, стоявшей во главе всего народа, выступали против привилегий аристократов крови. Английская, Американская и Французская революции осуществили это требование и вписали его в Декларацию прав человека и гражданина. Но из трёх лозунгов Французской революции — Свобода, Равенство и Братство, которые теоретически обосновал Руссо, на практике сложнее всего дело обстояло с Равенством. И уже Французская революция вынуждена была бороться не только с аристократами, но и с коммунистами-сторонниками Гракха Бабёфа, требовавшими вслед за равенством прав и обязанностей, имущественного равенства.
«Либералы, — писал Герцен, — долго играли, шутили с идеей революции и дошутились до 24 февраля. Народный ураган поставил их
на вершину колокольни и указал им, куда они идут и куда ведут других; посмотревши на пропасть, открывавшуюся перед их глазами, они побледнели; они увидели, что не только то падает, что они считали
за предрассудок, но и все остальное, что они считали за вечное и истинное; они до того перепугались, что одни уцепились за падающие стены, а другие остановились кающимися на полдороге и стали клясться всем прохожим, что они этого не хотели. Вот отчего люди, провозглашавшие республику, сделались палачами свободы, вот отчего либеральные имена, звучавшие в ушах наших лет двадцать, являются ретроградными депутатами, изменниками, инквизиторами». (Герцен А.И. Соч. Т. 2. С. 39—40). О, как это похоже на нашу российскую ситуацию после 1905-го и после 1917-го года. Это и про наших либералов: «Они хотят свободы, даже республики в известном круге, литературно образованном. За пределами своего умеренного круга они становятся консерваторами. Так рационалистам нравилось объяснять тайны религии, им нравилось раскрывать значение и смысл мифов, они не думали, что из этого выйдет, не думали, что их исследования, начинающиеся
со страха господня, окончатся атеизмом, что их критика церковных обрядов приведет к отрицанию религии». (Там же. С. 40).
Вот почему просвещение «вредно» народу. Уже славянофилы-консерваторы боялись, что мужики, овладевшие грамотой, пожалуй, землю пахать перестанут. И либеральная идея равенства, как понимали охранители в России, до добра не доведет. «Либералы всех стран, — пишет Герцен, — со времени Реставрации, звали народы на низвержение монархически-феодального устройства во имя равенства, во имя слёз несчастного, во имя страданий притеснённого, во имя голода неимущего; они радовались, гоняя до упаду министров, от которых требовали неудобоисполнимого, они радовались, когда одна феодальная подставка падала за другой, и до того увлеклись наконец, что перешли собственные желания. Они опомнились, когда из-за полуразрушенных стан явился — не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле — пролетарий, работник с топором и чёрными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот „несчастный, обделённый брат”, о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же его доля во всех благах,
в чём его свобода, его равенство, его братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступом улицы Парижа, покрыли их трупами и спрятались от брата за штыками осадного положения, спасая цивилизацию и порядок!». (Там же).
Как тут не вспомнить либерала Гершензона, который после того, как Пётр Столыпин покрыл трупами российские просторы, заявил, что «мы должны быть благодарны правительству за то, что оно штыками своими спасает нас от гнева народного». И вся интеллигентская либеральная братия развернулась против низового народа. Либерализм, пишет Герцен, «последовательно проведённый, непременно поставит человека лицом к лицу с социальным вопросом». (Там же. С. 249).
Люди, получившие свободу, начинают требовать хлеба. Эта истина и испугала либеральных друзей Герцена. «Кроме Белинского, — как признаётся он сам, — я расходился со всеми: с Грановским и Е.К[оршем]». (Там же). Да, Белинский, «неистовый Виссарион», был демократом, что называется, до мозга костей. И как ярко проявился его демократизм
в описанном столкновении с его гостеприимными и хлебосольными,
то есть вполне либеральными, друзьями, которые во время поста ели скоромное, но перед прислугой делали вид, что они постятся. И когда они сказали об этом Белинскому, тот с возмущением покинул этот дом, заявив, что у него нет «людей». Даже такая, казалось бы, невинная ложь по отношению к «людям» возмутила его до глубины души. И надо сказать, у нынешних либеральных литературоведов Белинский не в чести.
И либералы, и демократы были против крепостного права. «Тотчас же по приезде, — писал Белинский П.В.Анненкову в декабре 1847 года после своего возвращения из-за заграницы, — услышал я, что в правительстве нашем происходит большое движение по вопросу об уничтожении крепостного права». (Белинский В.Г. «Вся жизнь моя в письмах». Из переписки В.Г.Белинского. — М., 2011. С. 365—366). А вопрос состоял в том, освобождать крестьян с землей или без земли. «Трудность этого решения, — пишет в том же письме Белинский, — заключается
в том, что правительство решительно не хочет дать свободу крестьянам без земли, боясь пролетариата, и в то же время не хочет, чтобы дворянство осталось без земли, хотя бы и при деньгах». (Там же. С. 366). Для разрешения этого вопроса министр внутренних дел Л.А.Перовский выписал из Тульской губернии помещика и сотрудника «Отечественных записок» П.Н.Мяснова. «Вы, — пишет об этом Белинский, — имеете понятие о Мяснове. Это человек неглупый, даже очень неглупый, но пустой и ничтожный, болтун на все руки, либерал на словах и ничто на деле. Роль, которую он теперь играет, забавляет его самолюбие и даёт пищу болтовне, а он и без того помолчать не любит. Он говорит, что в губернии его считают Вашингтоном (по его, это значит быть радикалом
в либерализме), а вот мы, молодое поколение, хотели бы его повесить, как консерватора, хотя, по правде, мы и не считаем его достойным такого строгого наказания, а думаем, что довольно было бы прогнать его по шее к его лошадям, на его завод — писать для них конституцию; это его настоящее место — конюшня». (Там же. С. 366—367). Вот и Жириновский настолько глуп, что, как говорится, своя своих не познаша, обозвал на дебатах «Собчачку» проституткой, хотя они одной крови — либеральной, и соперничество тут чисто личное.
Как мы видим, основной критерий различия между либерализмом и демократией — отношение к низовому народу, к бедным. Демократ Руссо, как уже было сказано, писал либералу Вольтеру, что его возмущает презрение того к бедным. Либерал Жириновский тоже презирает бедных и однажды высказался так, что бедным надо не позволять размножаться. Но если бедных не будет, то кто же будет кормить его самого? Помните, как у Салтыкова-Щедрина один мужик двух генералов прокормил. И хорошо, что такой мужик нашёлся, а то бы генералы, несмотря на генеральство, с голоду бы померли. Жириновский не понимает того, что если истребить бедных, то вымрут и богатые.
Ленин отмечает «враждебное отношение либералов к великому социалисту», имея в виду Н.Г.Чернышевского. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 617). Он пишет также об отношении либералов к его аресту. «Так, — отмечает он, — один из вождей тогдашнего либерализма и хороший знакомый Чернышевского, Кавелин, в письме к Герцену
не скрывал своего истинного чувства: „Известия из России, с моей точки зрения не так плохи… Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся возмутительными… Чернышевского я очень, очень люблю, но такого брульона, бестактного и самонадеянного человека я никогда ещё не видел. И было бы за что погибать!..”. …Таков был Иудин поцелуй либерала, до сих пор окружённого ореолом сияния в глазах наших „конституционно-демократических” буржуа». (Там же. С. 617—618). Иначе воспринял эту ситуацию сам Герцен. «Герцен, — пишет Ленин, — встретил возмутительный приговор над Чернышевским проклятием его палачам всех рангов и степеней и заклеймил позором продажную либеральную и консервативную печать, которая своими доносами и травлей накликала варварские гонения правительства на прогрессистов и революционеров». (Там же. С. 620). По словам Ленина, Чернышевский меньше всего возлагал надежд на либералов. «Недоверие к либералам необходимо для революционера, так как либералы меньше всего думают о народном благе, а преследуют чисто буржуазные интересы.
Но он простил бы им половину исторических грехов, если бы они проявили хоть сколько-нибудь решимости и настойчивости даже в преследовании своих классовых целей, если бы они поняли, что никакие реформы не имеют никакого значения в России до тех пор, пока остаются в целости основные черты старого режима…». (Там же. С. 591).
До отмены крепостного права либералы и демократы шли вместе. Но после отмены и образования движения «Народная воля», которое было абсолютно демократическим, либерализм и демократия резко разошлись. И тут уже путать тех и других стало невозможно. В этих
условиях либерализм в России стал конституироваться как особенное общественное и политическое движение.
Демократия в России преобладала до тех пор, пока она не обуржуазилась. Но во второй половине ХIХ века именно это и произошло, и либерализм как общественное движение зарождается в 40—50-е годы. Сюда относят В.Т.Грановского, В.П.Боткина, П.В.Анненкова, К.Д.Кавелина, раннего Б.Н.Чичерина: это дворянский период. Затем либерализм земский: К.К.Арсеньев, Д.Н.Шипов, В.А.Гольцев, С.А.Муромцев. И либерализм буржуазный: П.Д.Долгоруков, П.Б.Струве, П.Н.Милюков, П.И.Новгородцев. Это деление условно, но основной идеей, к которой склонялись либералы, была идея парламентаризма и конституции.
Но в том-то и дело, что парламентаризм — вовсе не демократия. Начиная с Первой думы в России, демократия, то есть низовой народ, почти не был представлен, как и в самой последней российской Думе что-то не видно ни одного крестьянина, ни одного работяги. В либерализм
в России стала съезжать и социал-демократия, и в этом отношении характерен так называемый «легальный марксизм». И один из ярких представителей и основоположников здесь П.Б.Струве. При этом легальный марксизм переходит в либерализм и, в методологии, в объективизм, за который критиковал Струве Ленин. Объективизм и позитивизм — вот философия либерализма.
До тех пор, пока в России была дворянская монархия, никакие реформы буржуазии ничего не давали. Так и было в России до Первой мировой войны, когда русская буржуазия начала переходить в открытую оппозицию к царской монархии. Вот здесь и появляется настоящий либерализм и первая либеральная партия, возглавляемая П.В.Милюковым, члены и сторонники которой называли себя конституционными демократами — кадетами. Но именно кадеты в Гражданской войне оказались на стороне генералов, а не на стороне народа, показали себя врагами народа. Но до того была ещё путаница. «Кадеты, — писал
В.И.Ленин в 1912 году, — продолжают называть себя демократами, будучи на деле контрреволюционными либералами». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 244). Это Ленин писал в статье «Либерализм и демократия», где проводит чёткое различие между либерализмом и демократией. Ленин имеет в виду в данном случае трудовиков — крестьянская партия, представленная в Думе и боровшаяся за землю. «Трудовики, — пишет Ленин, — хотят быть радикальнее кадетов. Это очень хорошо. Но их радикализм был бы последовательнее и глубже, если бы они ясно понимали классовую сущность либерально-монархической буржуазии, если бы они прямо говорили в своей платформе о контрреволюционном либерализме кадетов». (Там же. С. 245).
Либералы называют себя демократами, потому что хотят иметь
на своей стороне народную массу. «Либералу, — пишет Ленин, — нужен избиратель, либералам нужна доверяющая им и идущая за ними толпа (чтобы заставить потесниться Пуришкевичей), но политической самостоятельности толпы либерал боится». (Там же. С. 239). М.Зыгарь
в своей книге «Империя должна умереть. История русских революций
в лицах. 1900—1917» так прописывает предполагаемый диалог между Милюковым и Столыпиным, придуманный Лениным: «Милюков беседует на аудиенции со Столыпиным: „Изволите видеть, ваше-ство, я расколол революцию и оторвал от неё умеренных! На чаёк бы с вашей милости”… Столыпин: „Н-да, я походатайствую о вашей легализации. Знаете, Павел Николаевич, вы лаской раздробляйте рабочую сволочь, а я её дубьем буду. Вот мы тогда с обеих сторон… По рукам, Павел Николаевич!”». (Зыгарь М. Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900—1917. — М.: Альпина Паблишер, 2017. С. 470—471).
Либералы боятся политической активности низового народа. Они боялись этой активности до революции, они боятся этого и теперь. «Было время, — писал Ленин, — когда либералы запугивали прямо победой чёрной сотни на выборах. Теперь же грубая ложь уже „не берет”. Все знают, что никакой, безусловно ни малейшей черносотенной опасности на выборах в Петербурге нет. И вот пускается в ход запугивание иного рода: „нечего-де и рассчитывать на победу рабочих”». (Там же. С. 473).
Понятно, что это художественный вымысел. Но историческая правда в том, что либералы оказались между двумя огнями. Милюков жаловался, что их травят с обеих сторон: консерваторы по-прежнему считают либералов врагами и революционерами, а марксисты — предателями и агентами правительства. Вот тут и происходит переход легальных марксистов и меньшевиков на позиции либерализма. И как раз здесь главной фигурой оказался Пётр Струве. Струве считается даже основоположником РСДРП и инициатором перевода на русский язык «Капитала» Маркса. Но он, сын пермского губернатора, имеет деньги, и их использует для того чтобы заплатить за такой перевод, причём в духе своего понимания теории стоимости и прибавочной стоимости у Маркса. Он, впрочем, даёт деньги и на «Искру». Но уже на II съезде, в 1903 году, он на стороне меньшевиков.
Интересно, что и в наши дни либералы пугают публику жупелом черносотенства. Но сейчас это только предлог и оправдание того, чтобы тикать в Америку. Так, например, автор толстенной книжки о «гибели империи», Зыгарь пишет под конец, что и «сегодня многие разделяют ценности чёрной сотни», потому, считает он, самое главное — вовремя смыться из «Рашки». Но это и есть либеральная боязнь всякого проявления активности народных низов, которая проявляет себя и в патриотизме, который либерально-безродные космополиты, клеймят черносотенством. Но если «сегодня многие разделяют ценности чёрной сотни, другие — оправдывают репрессии и „красный террор”», то есть и такие, которые разделяют либеральные «ценности» и оправдывают белый террор. И это и есть либеральное понимание свободы. Или Зыгарь хотел бы, чтобы можно было оправдывать только белый террор и осуждать «красный террор»?
В общем, как и сто лет назад, мы имеем две традиции в нашем идейном и политическом раскладе: демократическую и либеральную. И сегодняшний благонамеренный интеллигент путается в этих «двух соснах». Но сто лет назад русский либеральный интеллигент быстренько сориентировался и перешёл на сторону врагов народа. Так бывший марксист и социалист П.Б.Струве, перейдя в партию кадетов Милюкова, оказался в Крыму у Врангеля. И его нисколько не смущали «подвиги» генерала, об одном из которых он сам пишет в своих воспоминаниях. Вот что пишет бравый генерал Врангель, к которому на службу побежал тоже «демократ», «легальный марксист» Пётр Бернгардович Струве. «Переговоривши с полковниками Чичинадзе и князем Черкесовым, я решил сделать опыт укомплектования пластунов захваченными нами пленными. Выделив из их среды весь начальствующий элемент, вплоть до отделённых командиров, в числе 370 человек, я приказал
их тут же расстрелять. Затем объявил остальным, что и они достойны были бы этой участи, но что ответственность я возлагаю на тех, кто вёл их против своей родины, что я хочу дать им возможность загладить свой грех и доказать, что они верные сыны отечества». (Барон П.Н. Врангель. Воспоминания. — М., ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2006. С. 104—105).
370 душ! Так просто и буднично! Как говорят, не хило. Нынешние поклонники убийц русского народа скажут: что делать, война есть война. Но война-то шла с обеих сторон. И зачем тогда красных уличать
в «зверствах» по отношению к белым. И пускай они приведут хотя бы один случай, когда были бы расстреляны сотни простых русских людей. Вот и отлилось им, этим «утомлённым солнцем», в Крыму, откуда дёрнул в Константинополь барон Врангель, оставив на произвол судьбы своих офицеров, которым мест на пароходах не хватило.
И после этого говорят, что «большевики» взяли власть насилием!
О «большевиках» приходится говорить вообще условно, потому что
в Иркутске в самом начале 1920 года к власти пришёл «политический центр», состоявший в основном из эсеров, который предал суду адмирала Колчака. Ему вменялось в основном то, что он попустительствовал убийцам членов Учредительного собрания и своих политических противников. Колчак был расстрелян ещё до вступления советских войск
в Иркутск, то есть до прихода собственно большевиков. Да и здесь Василий Иванович Чапаев не понимал разницы между «большевиками» и «коммунистами». Но вот разницу между коммунистами и либералами красные понимали, и деникинцев они так и называли «кадетами». Очередное предательство либералов свершилось. А.Ципко радуется, что он живёт под сенью бело-голубого знамени, под которым Деникин,
а раньше Корнилов расстреливали пленных красноармейцев, наших отцов и дедов, которые хотели только земли и воли. И если он за убийц русских людей, то кто он? Конечно, он не просто идейный противник,
а враг, с которым не спорить надо, а просто бить морду. И это продолжение той борьбы, которую вели рабочие и крестьяне против и Деникина, и Колчака, и Юденича, и Врангеля.
Сейчас мы имеем в нашей многострадальной стране либеральную систему. Правящая партия, так называемая «Единая Россия», — либеральная партия. И она же антинародная и антидемократическая. И демократия возьмёт верх только под социалистическими лозунгами. Либерал-реакционер академик Пивоваров утверждает, что «настоящим либералом» был именно Струве. Другие либералы, выходит, были ненастоящими. Но в чём разница между «настоящими» и «не настоящими» либералами, неясно.
«Признаем нашу некультурность и пойдём на выучку к капитализму». Этим завершился «марксизм» Струве. Да, у капитализма есть чему поучиться. Об этом писали и Маркс, и Энгельс, и Ленин. Ленин считал, что организация капиталистического треста является образцом социалистической организации общества. А Макс Вебер считал спецификой капитализма рациональность и калькуляцию. Но капитализм в любом случае эксплуатация человека человеком, расслоение общества на богатых и бедных, что мы имеем сейчас в России.
Либерализм в качестве главной нормы отношений в «гражданском обществе» считает терпимость. Но есть ещё любовь. «Любовь, — писал Семён Франк, — есть нечто иное чем терпимость, чем признание прав другого, готовность согласиться на его свободу осуществлять его собственные интересы, идти избранным им путём. Такой «либерализм»
в смысле признания субъективных прав другого и подчинения своего собственного поведения правовому порядку, обеспечивающему эти права есть некий минимум любовного отношения к людям, либо мёртвый остаток истинной любви, либо потенциальный её зачаток, в котором она пассивно дремлет; уважение к правам других людей может сопровождаться равнодушием и безучастием к ним». (Франк С. Религия любви. — Русский эрос. — М., 1991. С.410).
«Цель христианской религии, — отмечал Виссарион Белинский, — есть — возведение личности до общего, возвышение субъекта до субстанции». (Белинский В.Г. «Вся жизнь моя в письмах». Из переписки Белинского. — М., 2011. С. 234). Гегель в своих ранних работах противопоставляет христианству язычество как народную религию. Но и христианство может стать народной религией, как это во многом произошло
в России: православное христианство было для простого народа просто традицией, ритуалом, календарем сельскохозяйственных работ и расписанием всей бытовой жизни. Оно, как и язычество с его мифологией, было нравственно-духовной основой, на которой люди строили свои отношения. Но надо понимать, что есть большая разница между народным христианством и церковным христианством, и эту разницу признавал Лев Толстой. И если Кирилл Гундяев в своих проповедях поносит Советскую систему, то с ним едва ли согласны те бывшие советские граждане, которые и тогда были верующие христиане. Во-первых, это не по-христиански: Христос учил прощать даже врагов своих.
А, во-вторых, это поношение системы, из которой он сам же и вышел. И это поношение с позиций того, что Лев Толстой называл церковным христианством, которое он противопоставлял, так сказать, народному христианству.
«Как ни старались церковники, скрыть от людей сущность этого учения, выраженного в евангелиях, — писал Лев Толстой, — ни запрещения переводов евангелия на всем понятный язык, ни лжетолкование их — ничто не могло затушить свет, прорывающийся сквозь церковные обманы и освещающий души людей, всё более и более ясно сознающих великую истину, которая была в этом учении. Как только с распространением грамотности и печати люди стали узнавать евангелие и понимать то, что в нём написано, люди не могли уже, несмотря на все извороты церкви, не увидать того бьющего в глаза противоречия, которое было между государственным устройством, поддерживаемым церковью, и учением евангелия». (Толстой. Закон насилия и закон любви. Глава 5). Толстой собственно показал порочность церкви, а вовсе не христианства. И конфликт его был именно с церковью, которая «отлучила» его. От чего, от кого, — в этом вопросе либералы путаются. Но об этом надо бы его спросить…
Лев Толстой против церкви и церковного христианства, потому что
в качестве государственной религии оно поддерживает существующее государство. Вот что он пишет об этом: «Одни люди, большинство рабочего народа, продолжая по преданию исполнять то, чего требуют церкви, и отчасти вера в это учение, без малейшего сомнения верят, именно верят, и в то возникшее в церковной вере и основанное на насилии государственное устройство, которое ни в каком случае не может быть совместимо с христианским учением в его истинном значении. Другие же люди, так называемые образованные, большей частью уже давно не верящие в церковное, и потому и ни в какое христианство, так же бессознательно верят, как и люди народа, в то государственное устройство, основанное на том самом насилии, которое введено и утверждено тем самым церковным христианством, в которое они давно уже не верят». (Там же). Толстой не только против государственного насилия, а он против всякого насилия. И он разворачивает свое толкование христианства как непротивление злу насилием, что, конечно же, наивная утопия. Но отвращение к насилию в народе, как он показывает, весьма распространено, в том числе и к государственному насилию.
Ципко сегодня гордится тем, что он живёт под сенью деникинского бело-голубого знамени. Но под красным знаменем Красная Армия побила вдребезги и белых, и голубых, и зеленых, и жовто-блакитных.
Ещё интервентов под двуглавым английским лёвою. А всего в интервенции участвовало 14 стран. Понятно, что у интервентов было во многом формальное и символическое участие. Но, тем не менее, это говорит о духе и героизме Красной Армии, которые нашли своё продолжение в Великой Отечественной войне 1941—45 годов. А вот празднование годовщины нашей Победы в последний раз показало, что этот дух как-то утрачен современной российской армией. Как-то вяло все, и даже не спели замечательных песен военных лет. «Бессмертный полк», конечно, прекрасно. Но люди шли опять же под бело-голубым «знаменем» и мимо мавзолея Ленина, прикрытого какими-то декорациями, хотя Красная Армия побеждала под знаменем Ленина, и все парады проходили перед Мавзолеем, к подножию которого и были брошены гитлеровские знамёна и штандарты. И никто не возмущается, стыд и позор! И это все результат либеральной пропаганды, которой наш народ в какой-то части поддался.
Версия для печати