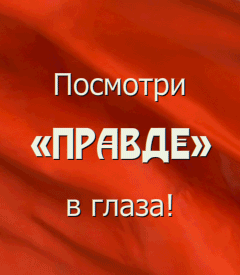С.Н.Мареев. «Разговор о марксизме начистоту».
По настоятельной просьбе читателей публикуем ещё две статьи из журнала «Изм» начала 1990 годов. Они сохраняют свою актуальность до сих пор и могут быть использованы в агитационно-пропагандистской работе. Статьи написаны с высочайшим мастерством, отличаются глубиной и наступательностью. На них молодым авторам можно учиться коммунистической публицистике.
Редколлегия.
С.Н.Мареев «Разговор о марксизме
начистоту»*
___
МАРЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доктор философских наук, профессор.
* Публикуется с незначительными сокращениями.
К такому разговору призывает читателя в своём очередном опусе «Насилие лжи, или Как заблудился призрак» («Молодая гвардия», 1990) Александр Ципко. На что намекает автор своим «призраком», понятно. Что касается «насилия» и «лжи», то он хочет сказать, что марксизм — это ложь, которая могла держаться только насилием, и что насилие — это имманентная, так сказать, характеристика самого марксизма.
Автор, судя по подзаголовку, — «научно-художественные очерки
об истоках сталинизма», — на строгую науку не претендует, а претендует на некоторую художественность. Что касается последнего, то есть художественности, то в этом мы не хотим автору отказать вовсе, хотя уже тут обнаруживается какое-то несоответствие формы и содержания: серьёзный предмет требует соответствующего серьёзного подхода. Да и художество у Ципко оказывается какое-то своеобразное.
То есть, уж если претендуешь на изящную словесность, то надо писать не «уготовлено будущее» (С. 25), а «уготовано будущее», камни Христос превращал не в «хлеба» (С. 66), а в «хлебы», а когда Ципко пишет
про стиральную машину и про грязное постельное бельё, то это, конечно, верх «художественности». Это даже стоит того, чтобы привести соответствующее место:
«Принцип естественного развития объекта несовместим с ускорением истории, — поучает Ципко. — Это всё равно, что толчками извне, ударами по крышке ускорять работу стиральной машины-автомата. Подобная помощь может привести только к порче машины, а значит, к тому, что вы будете спать в грязной постели и носить грязное бельё». (С. 86).
Нет, законы художественного слова всё-таки обязывают, чтобы кое
о чём и умалчивать. И вообще я бы предложил Ципко другую редакцию подзаголовка: не «научно-художественные», а «научно-фантастические очерки об истоках сталинизма». И на то есть основания: если наш автор всё-таки не Проспер Мериме, то что касается фантастики, вернее фантазёрства, то этого у него предостаточно.
Всё это к тому, что если в дальнейшем с нашей стороны речь идёт
о критике, то последнюю тоже надо рассматривать не столько как научную, сколько как художественную. Ведь форма, как мы уже сказали, должна соответствовать своему содержанию: девушка может петь
о потерянной любви, но скряга не может петь о потерянных деньгах. И потому мы не можем вести в данном случае серьёзный научный разговор по поводу несерьёзного, так сказать, предмета. Действительно, как можно всерьёз относиться к книге, которая, согласно признанию самого автора, «с самого начала была обречена быть рассказом, который
не имеет конца». (С. 3). И было ли у этого рассказа начало?
Ни того, ни другого у него нет. И Ципко сам объясняет, почему. «Я думал много в последнее время, — признаётся он, так сказать, в сокровенном, — о нашем будущем, в конце концов, о своём. Но, честно говоря, ни одно предчувствие на озарило меня». (С. 4). Всё-таки прошлое и будущее прочно связаны между собой. И если у человека нет ни одного «предчувствия» относительно будущего, то у него нет и никакого «предчувствия» относительно прошлого и настоящего. Если у человека нет будущего, то и настоящее обязательно приобретает для него какой-то призрачный характер. И потом, если нет ни одного «предчувствия», то зачем же браться за перо?
Пушкин, когда писал своего «Евгения Онегина», сокрушался, дойдя до соответствующего места: надо же, что выкинула моя Татьяна, — она выскочила замуж. Лев Толстой тоже не знал с самого начала, что «его» Анна в конце концов бросится под поезд. Но это всё особы женского пола, от которых действительно не знаешь, чего ожидать. Но когда
вы пишете про Сталина и про Маркса, то надо всё-таки заранее знать, что они с вами «выкинут». А у Ципко получается, что шея вертит головой. «Вот такая история, — опять же признаётся он. — Задумал я написать обличительную и разоблачительную книгу о сталинизме, а всё окончилось разговором о драме марксизма и всех его учеников. Я просто был вынужден, во имя самого себя, своего духовного здоровья, выйти
за границы привычных для меня марксистских штампов типа марксистской критики культа личности Сталина, марксистской критики так называемого мелкобуржуазного максимализма и посмотреть на его на его учение как бы со стороны, глазами свободного человека. Такой вывод, как убедится читатель, прочтя книгу, даётся очень трудно». (С. 5—6).
«Во имя самого себя» — это, конечно, очень мило! Да и забота
о «своём духовном здоровье» понятна. Хотя надо бы прежде заботиться о «духовном здоровье» читателя. Что же касается «терниев», через которые пробирался Ципко на пути к своему выводу, то я, как читатель, уже прочитавший его книжку, могу подтвердить, что их действительно было много. Ведь чтобы прийти к объективной истине, надо преодолеть себя. Но когда что-то делается «во имя себя», то как раз объективная истина, как правило, начинает мешать человеку, и он начинает лукавить. А это, понятно, не всегда легко.
Но тут наш автор начинает замечать, что он выдаёт себя, и его эгоцентризм может покоробить читателя, поэтому спешит оправдаться:
«В конце концов, если „капля в море” России присвоила право переломить её привычное движение, то почему такая капля, как автор этой книги, не имеет право просто рассказать, что у неё на душе. Ведь я тоже какая-то часть нашей страны и то, что происходит у меня в уме, в сознании, принадлежит ей, происходит с ней». (С. 6).
Понятно, что всё, что происходит в сознании гражданина Ципко, происходит в его стране, — до тех пор, конечно, пока он в своей стране. Но отсюда не следует, что всё, что происходило со страной, нашло адекватное отражение в душе нашего автора, этой «капли». Да и история марксизма и международного рабочего движения отразилась в этой «капле», мягко говоря, не совсем верно. А если квалифицировать всё это в адекватных терминах, то это «отражение» просто ложно. Вот это-то и есть главный и основной пункт всего, так сказать, corpus delicti гражданина Ципко.
1. Ложь во имя себя
Самая главная ложь, которую «обосновывает» Ципко, это утверждение, будто марксизм — безнравственное учение, а его основоположник — безнравственный человек. Начнём, говорили древние ab ovo, иначе говоря, с яйца, то есть с «отца», с Карла Генриха Маркса из Трира. Почему же он безнравственный человек? Он безнравственный, утверждает Ципко, потому что учил «нарушать житейские принципы морали ради принципов грядущего». Кого же учил этому ужасному пороку Маркс?
Он учил этому... Ленина. И здесь Ципко вступает в «полемику»
с В.Гроссманом, доказывая, что «безнравственность» Ленина идёт
не от «русского характера», а «прежде всего от марксистского учения
о диктатуре пролетариата». «Если бы В.Гроссман хорошо знал историю социалистической мысли, то он бы обнаружил, что „нарушать житейские принципы морали ради принципов грядущего” учили не только Бакунин и Нечаев, но и Карл Маркс». (С. 20).
Итак, диктатура пролетариата безнравственна. А марксизм как учение, выдвинувшее идею диктатуры пролетариата, есть поэтому безнравственное учение. Через всю книгу Ципко прочитывается только одно: диктатура пролетариата безнравственна, потому что есть насилие. А насилие, надо так понимать, безнравственно «по определению». Вот только в этом, в сущности, и состоит всё «попрание» марксизмом житейских принципов морали. Нет, не в том, что Маркс зарезал свою мать и ограбил сирот, а в том, что он учил рабочих, что они смогут освободить себя, только завоевав политическую власть.
Как это ни покажется парадоксальным нашему строгому блюстителю житейских принципов морали, эти принципы приходится нарушать именно во имя нравственности, ибо безнравственна прежде всего эксплуатация, а на страже этой эксплуатации стоят «принципы житейской морали». Нарушение этих принципов во имя нравственности — довольно распространённый случай в нашей жизни. Представьте себе простой случай. Житейские принципы морали требуют, чтобы человек женился на девушке, так сказать, его круга. Но вот он влюбляется в какую-нибудь Золушку и плюёт на все принципы сословной морали. Нравственно или безнравственно он поступает — вот в чём вопрос.
Однозначного решения этот вопрос не имеет, он вводит нас в круг тех нравственных коллизий, которые составляют содержание почти всех романов в стихах и прозе. И «Страдания молодого Вертера» Гёте, и «Евгений Онегин» Пушкина из этой серии. И если бы нравственность всегда совпадала с житейскими принципами морали, то её, как таковой, просто не было бы, как говорил Иван Карамазов, «скучища неприличнейшая».
Не только Карл Маркс с его диктатурой пролетариата, но всякая революционная идеология аморальна, поскольку она выводит человека сначала в мыслях его, за пределы привычного круга представлений.
Но она не безнравственна. Поэтому даже аморализм Ницше — этого лучшего из учеников дьявола — нам симпатичен, хотя это отнюдь
не то же самое, что «аморализм» Маркса. Попытки же опоэтизировать обывательскую мораль столь же безнадёжны, как и попытки опоэтизировать горе скряги, потерявшего деньги. А это в наше время пытается делать не только Ципко, но и множество других идеологов сытого мещанства. В этом отношении весьма характерны идеи А.Нуйкина, которые звучат в унисон антиреволюционизму Ципко. Одну показательную выдержку здесь стоит привести.
«Новая р-р-революционная утопия, — пишет Нуйкин, — ради которой мы должны начинать героическую борьбу, приносить жертвы и глядеть в рот новым пророкам? Упаси Бог, ещё одного витка самоистязания во имя светлого будущего человечество не выдержит. Задача как раз в том и состоит, чтобы перестать приносить жертвы, перестать бороться и попробовать научиться жить. Просто нормально: пошло-багополучно, сытно, радостно, чисто и дружелюбно друг к другу — жить! Если кто-то думает, что это легко, то ему просто кажется, что он „думает”. И не экономике тут суть, хотя нам сейчас она кажется самой безнадёжной сферой. Дело в том, что мы и не хотим жить чисто и благополучно. Мы на дыбы встанем, узду в клочья изорвём, со скуки перемрём, если нас в такую жизнь попробуют затащить. Гитлеровские идеологи вслух заявляли, что „лучше быть преступником, чем благонамеренным обыватем”. А разве мы иначе думали, даже если так не заявляли? Мы сотканы из материалов своей эпохи, и психика наша — её продукт. Эпоха же наша уже несколько тысячелетий варварская, стало быть, и психика у нас соответственно героическая. Почитайте наших беглецов — зиновьевых, лимоновых и иже с ними, — как им плохо, бездуховно, негероично там, на „зажравшемся Западе”». («Камо грядеши?» // Литературная газета, 19 июня 1991 г.).
Критика обывательской психологии — не самое худшее в идеологии немецкого национал-социализма. Да и не самое специфическое для последнего. Вспомните хулиганские мотивы в стихах Маяковского, Есенина. Во всякой революции есть разрушительное демоническое начало. Но без «безумства храбрых» всякая жизнь закоснела бы.
Вопрос о том, что нравственно, а что безнравственно, не решается однозначно на все времена. И кантовский «категорический императив» заводит нас в безнадёжные тупики, как только мы отваживаемся выйти
с этим «житейским принципом морали» в реальную жизнь. Морально следовать долгу. Воинский долг требует защищать родину. Но защищать, значит убивать, а убивать безнравственно. Вот вам и безнадёжная моральная аномалия, в которую попадает любой воин, как только он начинает «рефлектировать».
Ципко учит нас: «Надо мыслить кокретно-исторически». (С. 23). (Хотя, заметим в скобках, во всей его книге нет и грамма конкретного историзма). А конкретно вопрос можно, допустим, поставить так. Во многих странах мира, в том и в нашей, существует высшая мера наказания — смертная казнь: в США сажают на электрический стул, в Испании удавливают при помощи особого ошейника, во Франции отрубали голову при помощи изобретения доктора Гильотена (видите, как привилось орудие плебейского террора), в Англии по старинке вешают
за шею и т. д. Но смертная казнь, даже по законному приговору суда, — всё-таки насилие. Нравственна она или безнравственна? Тут можно опять рассуждать и морализировать. Но если посмотреть невзоровские «600 секунд», раздел уголовной хроники, то, насмотревшись некоторых сцен, даже христианнейший Александр Ципко, вместе с Алёшей Карамазовым, вынесет вердикт: «Расстрелять!». И безнравственным будет выглядеть совсем другое, а именно терпимость к растущей преступности в нашей стране, к распространению культа насилия, секса и т. д. Всё это «нравственно»! А диктатура пролетариата, которая, кстати, сумела в своё время обуздать преступность, «безнравственна».
Даже Пришвин, на которого без конца ссылается Ципко, более, так сказать, амбивалентен, а потому и более объективен в своей оценке большевиков: «Трудно теперь, — цитирует Ципко Пришвина, — оценить это действие большевиков, когда они брали власть, подвиг это или преступление, но всё равно: важно только, что в этом действии было наличие какой-то гениальной невменяемости». (С. 26).
Действительно, как можно винить человека, который, будучи поставлен в крайние обстоятельства, начинает порой совершать поступки,
не согласующиеся с обычными представлениями о нормах человеческого поведения? Но большевики в 1917 году оказались в таких обстоятельствах, какие до сих пор трудно описать.
И дело не в том, что большевики субъективно, так сказать, оказались в крайних обстоятельствах. Во время Первой мировой войны сама история объективно оказалась в крайних обстоятельствах, из которых был только один выход — революция. Это оказалось единственное — хотя и горькое — лекарство против всеобщего безумия. А потому революция, несмотря ни на что, в общем и целом нравственна.
На этот нравственный смысл революции уже было обращено внимание. И я позволю себе сослаться в данном случае на вышедшую, что интересно, почти одновременно с книжкой Ципко, книгу Э.Ю.Соловьёва «Прошлое толкует нас», в которой собраны, в основном, статьи автора разных лет. Вот что, в частности, там говорится насчёт войны и революции: «Война имеет экономические причины, но, начиная с известного момента, она уже не содержит в себе ни экономического, ни какого-либо иного „смысла”. Исторический процесс вышел из-под контроля разума во всех его проявлениях — вплоть до циничной рациональности дельца. Правящие круги европейских наций сумели начать войну и привести в действие огромные армии, но они (и вся общественная система, обеспечивающая их господство) уже не могут остановить кровавый поток событий. Если не произойдёт революция, общество в своём слепом движении может прийти к разрушению цивилизации». (Соловьёв Э.Ю. Прошлое толкует нас. — М., 1991. С. 238).
Вопрос стоял так: гибель цивилизации или «шоковая терапия» — революция. И наш высокоморальный Ципко, которому противно всякое пролитие крови и который осуждает Ленина за его лозунг о превращении империалистической войны в гражданскую, оказывается сторонником продолжения войны империалистической, то есть сторонником того, чтобы простые русские люди проливали кровь таких же простых немецких людей, и наоборот. Вот вам и превращение абстрактного морализаторства в вопиющую безнравственность.
То же самое и с лидерами европейской социал-демократии. Каутский, Бернштейн и т. д., которых сейчас принято противопоставлять Ленину и большевикам, — якобы указывали «правильный» путь, а большевики во главе с Лениным пошли не тем путём. Ленин и большевики
за диктатуру пролетариата, а те за «демократию». Но при этом почему-то забывают, что те «демократы» голосовали за военные кредиты своему правительству и, тем самым, способствовали тому, что Европа была ввергнута в безнадёжную мясорубку.
Все три известных в истории случая установления диктатуры пролетариата — Парижская коммуна, наши Советы и страны Восточной Европы — явились, так или иначе, следствием войны. И Ципко, который говорит о том, что непатриотично призывать к превращению войны империалистической в войну гражданскую, забывает о том, что некоторые «патриоты» у нас в 17-м году готовы были открыть фронт немцам, лишь бы задушить революцию, а истинные патриоты перешли на сторону революции во имя спасения Отечества.
Однако всё это понятно только человеку, у которого не смещены именно обычные нравственные понятия. Например, во все времена и
у всех народов считалось нравственным и похвальным бороться и
не сдаваться, плен считался позором. У Ципко всё наоборот. На тех же самых основаниях он считает «безнравственным» Маркса. «Он, к примеру, — уличает его Ципко, — ставил в заслугу коммунарам то, они не сдались без борьбы». (С. 51). Выходит, коммунарам надо было сдаться без борьбы, и тогда бы они поступили «нравственно».
И это не всё. Ципко утверждает, что «безнравственный» Маркс учил большевиков (?!) не быть «великодушными» и «честными». (С. 50). При этом следует ссылка на соответствующе место из сочинений Маркса и Энгельса. Откроем соответствующее место и посмотрим, каких таких «большевиков» учил Маркс не быть «великодушными» и «честными»,
а ещё наступать и не бояться гражданской войны. В этом месте, в письме Кугельману в Ганновер, речь у Маркса идёт опять-таки о героизме парижских коммунаров, которые проиграли из-за своего великодушия и честности, что не пошли сразу на Версаль из-за боязни гражданской войны, которую, как пишет Маркс, Тьер уже развязал. (См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 33. С. 172).
Так что подтасовочка получается, и довольно злонамеренная: неужели из текста письма Маркса не ясно, кого и чему учит Маркс? И это
не единственный и не последний случай.
Вот, например, ещё. Открывается новый раздел под заголовком «Человек может только то, что он может». Чего же не может человек? Человек не может создать цельное учение, цельное мировоззрение. Отсюда обречённость всей затеи Маркса. «Противоречивы, трудно соединимы были устремления Маркса». (С. 77). Далее следует перечень того, что не «соединяется» у Маркса. И среди прочего следует, что несоединимо «и искреннее желание помочь рабочему классу, облегчить его страдания и судьбу, но в то же время презрительное высокомерное отношение к этим несчастным, необразованным людям, не могущим встать вровень с ними». С. 78).
Это говорится у Ципко. Получается, что безнравственный Маркс презирал рабочих за их необразованность. Причём, как будто бы всё документировано: следует соответствующая ссылка на Сочинения Маркса и Ф.Энгельса. (Т. 27. С. 177). Кто же проверит, что там на самом деле? Но вот я, Фома неверующий, открываю соответствующее место. Что же мы там читаем? Пишет там не Маркс, а Энгельс, хотя Ципко вменяет «безнравственность» Марксу. Но ему какая разница: все они, и Маркс, и Энгельс, и Ленин — «безнравственные»! И пишет следующее. «Впрочем, по существу, мы не можем даже слишком жаловаться, что эти маленькие великие мужи нас бояться; разве мы в продолжении стольких лет не делали вид, будто всякий сброд — это наша партия, между тем как у нас не было никакой партии, и люди, которых мы,
по крайней мере официально, считали принадлежащими к нашей партии, сохраняя за собой право называть их между нами неисправимыми болванами, не понимали даже элементарных начал наших теорий? Какое значение имеет „партия”, то есть банда ослов, слепо верящих нам, потому что они нас считают равными себе, для нас, плюющих на популярность, для нас, перестающих узнавать себя, когда мы начинаем становиться популярными? Воистину мы ничего не потеряем от того, что нас перестанут считать „истинным и адекватным выражением” тех жалких глупцов, с которыми нас свели вместе в последние годы».
Как совершенно ясно, ни о каких рабочих у Маркса с Энгельсом и речи нет. Речь идёт об известной внутрипартийной склоке в эмигрантской среде после поражения революции в Германии в 1848 году... Имейте же совесть, поборник высокой нравственности! Нельзя же так передёргивать, даже во имя собственного духовного здоровья.
Нет, ничем не урезонишь человека, которому собственное духовное здоровье дороже всего. Как у Достоевского, пускай погибнет мир,
а мне чай пить. Во имя себя можно пойти на всё. И подо всё это подводится своеобразный идейный базис, что всё, мол, относительно, и нет
в жизни никакой нравственной опоры. Всё можно найти и у Маркса. Стоит только захотеть. «Учение Карла Маркса, — заявляет наш идейный боец за своё собственное духовное здоровье, — не может помочь перестройке по той простой причине, что на многие вопросы, поставленные жизнью, оно содержит в себе сразу два отрицающих друг друга ответа. Так что поступай как хочешь. Руководствуясь учением Карла Маркса, можно пойти резко влево, но если поднапрячься, можно найти в нём основания и для резкого поворота вправо. В текстах Маркса можно найти подкрепление для любого экономического, политического решения». (С. 78).
Конечно, если «поднапрячься», то можно всё. Ципко «поднапрягся», и у него вышло, что Маркс учил большевиков (когда последних ещё и
на свете не было) быть бесчестными и вероломными. Ещё раз «поднапрягся», и у него вышло, что Маркс презирал рабочих. Вообще Ципко порой напрягается так, что возникают опасения не только за его духовное здоровье, о котором он так печётся, но и за физическое: как бы
у него не получилась перенапряга.
Да, конечно, если «поднапрячься», то у Маркса можно найти полярные вещи. Но вы-то, как нравственный субъект, должны сделать какой-то нравственный выбор. И если Маркс действительно, как вы считаете, презирал людей, и вы к этому отрицательно относитесь, то вы уже
не можете отрицательно относиться к тому, что Маркс в высокое предназначение человека. Но... Ципко ещё раз «поднапрягся» и... осудил Маркса за его веру в людей. «Он не видел, скорее не хотел видеть, что каждый поглощён собой, в чём-то лукавит, является рабом своего честолюбия, жажды выиграть в вечном соревновании с другими, что человеку, даже самому честному, совестливому, трудно противостоять своему природному эгоизму, зависти, лести, соблазнам славы, власти, богатства». (С. 90).
Ципко, видимо, знает, о чём пишет. Но если человек действительно таков, каким он его нарисовал, то Маркс с полным основанием мог, даже должен был бы, его презирать... Нет, тут ничего не поделаешь. Тут получается как в известной басне про волка и ягнёнка:
«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Вот и всё. Ципко хочется скушать Маркса. А когда очень хочется, то повод и предлог всегда найдутся.
Нет, дело отнюдь не в Марксе и марксизме. Если бы Ципко отвергал только марксистские принципы, но он отвергает по сути любые высокие жизненные принципы, любую идейность. Не может «служитель и подвижник идеи», считает Ципко, быть «нравственным человеком».
(С. 117). Но отсюда получается, во-первых, что ни Сократ, которого умертвили афиняне за его идею, ни Дж.Бруно, которого сожгли на костре инквизиторы, ни протопоп Аввакум и т. д. — этот ряд можно было бы очень долго продолжать — не была нравственными людьми. А «нравственными» были те, которые этих «служителей и подвижников» травили, жгли, терроризировали и т. д. А, во-вторых, тогда, по логике вещей, «нравственным человеком» является служитель и подвижник собственного желудка, своей «мамоны», простите, своего собственного духовного (и физического) здоровья.
Маркс просто стоит в длинном ряду «служителей и подвижников идеи», «героев и еретиков». Поэтому любая низость для оправдания себя стремится унизить всякое подвижничество не во имя себя, всякую жертвенность, всякое служение не собственному, а человеческому духовному здоровью. Этим она стремится возвыситься в своих собственных глазах. Поэтому и для Ципко Маркс — это, по сути, только один из... И по сути, он клянёт всю революционную традицию:
и «якобинцев», и Бабёфа, даже Томаса Мюнцера. «Не будем хотя бы сейчас лукавить», — призывает нас Ципко. (С. 123). Золотые слова! Давайте не будем!
«Нет ни другого света, ни другой тьмы» (Монтень). Свет есть свет, тьма есть тьма. Нет ни другой истины, ни другой лжи. Истина всегда истина, — марксистская она или какая иная. А ложь всегда ложь, даже если она антимарксистская, или какая угодно, скажем, христианская. И «напрягаться» тут не надо. Но Ципко всё время «напрягается», а потому он и неуловимый, как Протей: то он порочит человеческую природу, то сторонник «категорического императива», то обвиняет Маркса за его веру в высокое назначение человека, то за то, что тот, якобы, всерьёз не думал «о трагических, неразрешимых проблемах человеческого бытия» (С. 91), и хотя уже его отец, как это должно быть известно Ципко, был «выкрест». И даже невозможно предположить, что он выкинет на не только следующей странице, но даже в следующим абзаце. Вот он «поднапрягся» и... все марксисты оказались у него «духовно неразвитыми»...
2. Горе не от ума
Хотя Ципко, как мы уже видели, и претендует на «художественность», палитра его довольно бедная и состоит всего лишь из двух-трёх штампов: всех, с кем он не согласен, он объявляет «духовно неразвитыми» и ещё «патологическими» личностями. То, что Маркс у него «духовно неразвитый», мы уже видели. Хотя Маркс и «страдал», как заявляет Ципко, «эти страдания не высекли в его душе ни одной искры духовного прозрения». (С. 91).
Вот так! Что же говорить о его последователях? «Я не могу назвать,
к примеру, — выносит свой очередной вердикт Ципко, — нравственным, духовно развитым человеком Л.Д.Троцкого, который своими пламенными речами разжигал страсти, толкал ожесточившихся матросов к насилию». (С. 142). Непонятно только, как мог «духовно неразвитый» человек произносить «пламенные речи»? Правда, потом, позже, Ципко отчасти реабилитирует того же Троцкого, а заодно и Зиновьева: «Конечно, окончивший одесское реальное училище Л.Д.Троцкий или самоучка Г.Е.Зиновьев стояли в культурном отношении значительно выше, чем многие нынешние доктора философских наук, имеющих за плечами университет и аспирантуру». (С. 169). (Доктор философских наук А.С.Ципко знает, о чём говорит). А некоторые из «твёрдокаменных» (это тоже у Ципко назойливый штамп) «в совершенстве владели иностранными языками, умением чётко формулировать свои мысли, к примеру, Л.Б.Каменев, многими интеллектуальными достоинствами, которыми зачастую не обладают наши современники, называющие себя интеллигентами, доктора философских, исторических или экономических наук». (С. 169).
Но это у Ципко опять-таки как у Собакевича: есть один приличный человек в городе, судья, да и тот свинья. «Судья» — это, положим, Анатолий Васильевич Луначарский. Уж, казалось бы, его-то Ципко должен был пощадить: всё-таки человек не только языки разные знал, но и историю культуры, современную философию, эмпириокритицизм овоил, Авенариуса перевёл (вернее, пересказал) на русский язык. Нет, и культурнейший и интеллигентнейший Анатолий Васильевич тоже «духовно неразвитый». «Даже, как нам казалось, — выносит своё частное определение Ципко, — высочайший эрудит, литератор В.В.Луначарский, умеющий говорить без умолку два часа кряду на любую тему, блекнет при сравнении с познаниями в области мировой культуры того же Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, П.Б.Струве». (С. 170).
Ну, положим, Луначарский «неразвитый», бог с ним, с Анатолием Васильевичем, — как-нибудь он это переживёт. Хотя Ципко не приводит
в данном случае никаких оснований, кроме того, что он так считает.
Но возникает подозрение, что дело здесь, в общем-то, просто в чисто партийных пристрастиях: Луначарский связался с большевиками, вот и оказался «духовно неразвитым». И в этом Ципко, как и во многом другом, проговаривается. Бернштейн, например, отошёл от революционного марксизма, и Ципко его тут же зачисляет в «развитые». «Сомневающийся Бернштейн, — пишет он, — был, на мой взгляд, более развитым в духовном отношении человеком, чем твёрдокаменные, наши подвижники идеи, не только потому, что считался с интересами того меньшинства общества, которое не отмечено печатью благородного пролетарского происхождения, считался с правом крестьянина оставаться крестьянином, а мелкого торговца — мелким торговцем, воспринимал их как людей, равных во всём другим членам общества,
но и потому, что обладал способностью видеть вещи такими, какие
они есть». (С. 189).
Но зачем тогда лукавить? Надо так прямо и сказать: кто за рабочих, те «неразвитые», а те, которые за крестьянина, и за мелкого торговца, те «развитые». И не причём тут языки, философия, диалектика, эрудиция и т. д. А то Ципко объявляет Ленина «неразвитым» только потому, что тот не полюбил Достоевского за то, что того, как он неосторожно признался, стошнило от сцены в монастыре. Он никаких индивидуальных отклонений вкуса не допускает: все должны восхищаться тем, что «старец провонял». Ленин, положим, «Аппассионату» любил, — «готов слушать хоть всю жизнь», — а Ципко, допустим, «Аппассионату»
не любит, что же, он уже только поэтому «неразивитый»?
Да, в очень жёсткие условия ставит человека Ципко: если хочешь быть «духовно развитым», то ты обязан любить Бердяева и Достоевского. Но этого мало, — ты ни в коем случае не должен любить Гегеля. Беда «твёрдокаменных», как заявляет Ципко, от того, что они учили диалектику по Гегелю и по Марксу, а «гносеологические корни сталинского пренебрежения к тому, что люди на самом деле думают и чувствуют, лежат в гносеологии Гегеля». (С. 103).
Но как всё это увязать с таким, например, положением Ципко: «Нельзя назвать духовно развитым человека, который лишает себя и других права на самостоятельный поиск истины, кто не хочет знать о том, что не укладывается в его схемы». (С. 195). Да, очень верно Вы подметили, г-н Ципко. Но о каком же праве на самостоятельный поиск истины может идти речь, если я не имею права читать Гегеля и Маркса, а обязан читать Кьеркегора и Хайдеггера? Ведь вы, простите, просто терроризируете людей своим жупелом «неразвитости», — чуть что, и всё, уже «духовно неразвитый». Видишь смысл в диалектике Гегеля — «духовно неразвитый», вдохновляет тебя Французская революция — опять «неразвитый».
«Важно осознать, — диктует нам свои условия Ципко, — что изнанкой революционного максимализма, изнанкой якобинства является гордыня, самоуверенность, которые никак не могут быть отнесены
в разряд человеческих достоинств, а, напротив, должны быть осуждены как проявление аморализма, духовной неразвитости». (С. 199—200).
Получается какой-то Великий Инквизитор: должны быть осуждены, вот и всё! Осудить, не рассудив прежде, — вспоминаете стиль и манеры Митина, Федосеева и т. д.? Чем лучше Ципко? То же самое, только наоборот.
Нет-нет. Ципко умеет не только порицать. Он строг, но справедлив. И если замечает хотя бы намёки на «исправление», он готов поощрить. Даже такого, «безнадёжного» якобинца, как Ульянов-Ленин, он готов, так сказать, морально поддержать, даже за видимость раскаяния. «Лично мне кажется, — пишет Ципко (видите, уже и тон другой: «мне кажется»), — Ленин — «отступник», понявший, что жизнь человеческая обладает большей ценностью, чем теоретические догмы. Ленин, заставивший себя уже на смертном одре засомневаться в истинности марксовой идеи непосредственного соединения личных и общественных интересов, полного вытеснения стихии из общественной жизни, более человечен. В этом Ленине, который во имя жизни рискнул переступить через авторитет догмы, проявил „беспринципность”, я вижу больше души и духовного развития». (С. 191).
В общем демаркационная линия у Ципко прослеживается довольно чётко: любое ренегатство говорит о высоком «духовном развитии», — весь меньшевизм в России от «духовного развития», а у П.Б.Аксельрода «хватило духовного развития, чтобы с самого начала ещё в 1903 году увидеть, чем обернётся большевистская тактика для России, что стоит за его якобинством» (С. 202), — а всякая верность идее, это от «недоразвитости». Причём партийная позиция Ципко настолько жёсткая и определённая, что он даже жертвам сталинских репрессий не может простить их коммунистической убеждённости: «Хочешь найти в душе своей к главным жертвам Сталина сочувствие и не можешь. Ведь, если честно, большинство из них были не люди, а монстры». (С. 205). Его
не смущает, что это, согласно его же собственной версии, признак низкого духовного развития, ведь Христос, к которому любит апеллировать Ципко, учил прощать. Нет, тут Ципко простить не может, ни простить,
ни забыть. «Разумом понимаешь, — признаётся он в своём тайном грехе, — что нужно уважать этих людей, с именем которых связаны многие значительные события в истории твоей страны. Но душа молчит, и
ей почему-то трудно доказать, что эти люди, в отличие от Сталина, были какие-то особенные, чистые, подвижниками и служителями идеи, обладали и развитым умом, и тонкой душой». (С. 206).
Да, сердцу не прикажешь. Но ведь если хочешь что-то доказать людям, надо приводить какие-то резоны. А все «доводы» Ципко сводятся по сути к тому, что его душа «молчит». Главный аргумент — это «мой внутренний голос»: «Просто мой внутренний голос не позволяет мне согласиться с тем, что подвижническая верность усвоенной когда-то идеи является признаком духовно развитой личности, её нравственного качества. Глубоко убеждён, что понятия „служитель и подвижник идеи” и „нравственный человек” не являются синонимами». (С. 117).
Но об этом мы уже у Ципко слышали. Непонятно только: если сам Ципко не служит никакой идее, то чему он служит, ведь себя-то, судя
по всему, он считает «нравственным человеком» и «духовно развитым», раз берётся судить, кто «развитый», а кто «неразвитый».
Правда, ещё он пользуется методом «от противного» в его своеобразной модификации: когда Ципко надо убедить читателя в своей правоте, он входит в раж и начинает кричать, что он так считает, и никто его не убедит в обратном. «Никто меня не убедит, что люди, всю жизнь ждущие мирового пожара, радующиеся любому проявлению классовой ненависти, каждой новой конфликтной ситуации, являются нормальными, духовно здоровыми людьми». (С. 184).
И ещё апелляция к авторитетам. Например, в самых главных авторитетах у Ципко ходит Н.Бердяев, который «находил печать вырождения»
на тех же лицах ленинской гвардии. (См.: С. 157). Очень много ссылается Ципко на «Встречи с Лениным» Н.Валентинова. При этом почему-то проникается к нему безграничным доверием: «Лично у меня не вызывает сомнений достоверность воспоминаний Н.Валентинова о Ленине
1904 года». (С. 54). Опять «внутренний голос», и больше ничего. Но и здесь Ципко, как и во многих других случаях, проговаривается, — поистине, на всякого мудреца довольно простоты, — что «вряд ли можно упрекнуть самого Валентинова в хорошем знании текстов Маркса». (С. 54).
Вот, собственно, и весь инструментарий «духовно развитого» Ципко. Документы, факты, анализ фактов, — всё это для него почти не существует. Поэтому он вынужден всё время «напрягаться» и строить всяческие гипотезы и предположения. «Конечно, — признаётся опять-таки
он сам, — свои предположения о наличии особых, подсознательных мотивов сверхлевизны подавляющего большинства вождей Октября
я не могу подтвердить какими-либо документами. Герои Октября были поразительно скупы на на признания, почти ничего не рассказали потомкам о том, что творилось у них в душе, когда они отважились посягнуть на то, что казалось вечным, когда посылали умирать в бою за новую власть тысячи, сотни тысяч, когда подписывали тысячи смертных приговоров. Главная тайна революции, главная тайна нашей истории умерла вместе с ними». (С. 122).
И в этом они, оказывается, виноваты: вместо того, чтобы копаться
в своей душе, они действовали. Но самое главное заключается в том, что «тайна» революции для Ципко коренится не в реальных противоречиях истории, не в столкновении различных социальных сил, а в «душе» революционеров, в глубинах их «подсознания». Не отчаянные обстоятельства толкали людей на отчаянные действия, а «страх». «Может быть, — размышляет Ципко, — мотивы поражающей нас настырной , фанатичной левизны старой гвардии, стремившейся в кратчайшие сроки перемолоть в муку классы и уклады старой России, были намного банальнее? Может быть, дело отнюдь не в их догматизме, в их святой вере в то, что Маркс писал о будущем неклассовом, нерыночном и нетоварном социализме, а просто в страхе за себя? Может быть, отнюдь
не заботой о чистоте марксизма и социализма было продиктовано выступление Г.Зиновьева и Л.Каменева на XIV съезде ВКП(б) против, как им казалось, опрометчивого экономизма Бухарина, который якобы
не ведал, что творил, начал звать партию к восстановлению зажиточного, самостоятельного мужика? Может быть, они просто боялись? Может быть, оттуда, из глубин подсознания, ими, как марионетками, двигал страх?». (С. 120—121).
Конечно, если человек, как определяет его Ципко, — низкое животное, что он «поглощён собой, в чём-то лукавит, является рабом своего честолюбия, жажды выиграть в вечном соревновании с другими, что человеку, даже самому честному, совестливому, трудно противопостоять своему природному эгоизму, зависти, лести, соблазнам славы, власти, богатства» (С. 90), что «корысть движет этим грешным миром» (С. 92), то человека всегда надо подозревать в трусости, вероломстве, страхе и т. д. И марксистами люди, оказывается, становились «от страха». (См.: С. 10). Но ведь сам Ципко был когда-то прописан по марксистскому ведомству, и потом он, судя по всему, человек, следовательно, всё это он о себе. Ведь не делает же он для себя исключение? Или он себя считает этаким Лоэнгрином, призванным спасти мир от пороков? Судя по профетическому тону, — « твёрдо убеждён», «я решился», «никто меня не убедит в обратном», можно, конечно, заподозрить и такое. Но это если очень хорошо поднатужиться, как говорит Ципко.
Ципко движется в плоскости чисто идеологических образований,
в области чистых мыслей и понятий. Нет ни малейшей попытки опуститься на землю, в область экономики, производства, реальной практической жизни. Поэтому и основной причиной зла в мире является не недостаточное наше, реальное развитие, а недостаточное «духовное развитие». Поэтому и основной движущей силой исторического развития у Ципко оказывается именно тот социальный слой, который занимается производством именно идей и понятий, — интеллигенция. Оказывается, всё наше горе от ума. И Ципко на полном серьёзе доказывает, что всё революционное зло у нас от интеллигенции. «Громадное влияние гуманитарной интеллигенции на настроения людей, — утверждает Ципко, — это не наша сила, а наша слабость. Те народы, где она
не существует как обособленный социальный слой, не знали ужасов революционных потрясений, бессмысленной, тупой гражданской войны». (С. 241). «Ни один класс России не жаждал так страстно революции, как интеллигенция. Это святая правда». (С. 246).
Маркса Ципко упрекает в «непоследовательности»: всё у него можно найти, стоит только поднатужиться. Но ведь это мог бы делать человек, который сам последователен. И если бы Ципко был последователен и проводил бы версию насчёт «вредности» гуманитарной интеллигенции, то он должен был бы одобрить акцию Советского правительства с «белым пароходом», на котором были высланы за границу 200 в основном именно гуманитарных интеллигентов, в том числе и любимый Ципко Н.Бердяев. Но Ципко почему-то простить этого большевикам не может, и всё время им припоминает это. Причём в разных местах у него пароход отплыл почему-то в разное время. В одном месте (С. 234) в 1922 году, как это и было на самом деле, а в другом — в 1925-м. «В 1925 году около 200 ведущих специалистов — в том числе в области религиозной философии — были высланы из страны». (С. 152). Может быть, это какой-то другой «пароход»?.
Вообще в книге Ципко много таких несовпадений времени и действия, хотя он и переписывал её три раза. В литературном отношении она представляет порядочный сумбур. Но это у Ципко не столько от недостатка литературного таланта, сколько от недостатка методологической дисциплины. Всё-таки последняя обязывает тянуть за один и тот же конец, а Ципко пытается дёргать за все концы сразу. То он доказывает нам, что во всём виновата интеллигенция: «Ни один класс России
не жаждал так страстно революции, как интеллигенция. Это святая правда». (С. 246). То про «белый пароход». То про то, что крестьянин Игнашка Сапронов (у В.Белова, кстати, Сопронов, но это уже мелочь по сравнению с мировой революцией) не виновен в сверхлевизне, сверхрадикализме... (С. 251). И если, как утверждает Ципко, у Маркса хорошо «поднапрячься», можно найти всё, то у Ципко, даже нисколько не напрягаясь, можно найти всё, что угодно.
Да, как глубоко прав Ципко: «Никто никогда в истории человечества не терял так разум, как мы». (С. 255). Иногда, тут надо отдать ему должное, Ципко бывает самокритичным. Но лучше бы он ещё разочек, четвёртый, переписал весь текст и подверг его, так сказать, методическому сомнению. Однако Ципко понимает сомнение только как «свободомыслие». «Одним из чудес перестройки, — пишет он, — как раз и является произрастание цветов свободомыслия в этой пустыне после редкого дождя демократии». (С. 170). Да, когда «цветы свободомыслия» произрастают в этой культурной пустыне при полной потере разума,
то действительно получается какое-то восьмое чудо перестройки.
3. «Цветы свободомыслия»
Ципко нигде ни разу, хотя он обещает разговор о марксизме «всерьёз» (и надолго), не говорит, а в чём собственно заключается метод Маркса. В чём основа науки, за которую он шпиняет его без конца. И это понятно. Ибо если бы он хотя бы назвал метод Маркса, то он должен был бы назвать и свой, отличный от марксова. Ведь в анализе общественных явлений, в конечном счёте, можно идти или от жизни к идеологическим формам выражения, или наоборот. Ципко фактически всё время движется «наоборот»: у него всё от «дурной головы», от гуманитарной и социалистической интеллигенции. А поскольку она в обществе всегда есть, то и опасность социальных катаклизмов, как считает Ципко, всегда сохраняется. «В конце концов, — заявляет он, — срыв общества в хаос возможен в любой момент, с любой высоты цивилизованного развития, как только видящие уступят власть ненавидящим, как только образуется перевес жаждущих невозможного». (С. 201). Почему же в обществе на любой высоте цивилизованного развития вдруг образуется перевес «жаждущих невозможного», — на этот вопрос вы вразумительного ответа у Ципко на найдёте. Вот появляются откуда-то такие «нехорошие» люди, которые «жаждут», и всё.
Единственное, на что указывает Ципко, когда он нам хочет объяснить, отчего «боги жаждут», это интеллигенция. «Мы не имеем права забывать, — на все лады поёт одно и то же Ципко, так что и сил нет уже читать эти бесконечные повторы, — что большевизм, а затем его детище сталинизм выросли в среде радикально настроенной русской интеллигенции, что она несёт ответственность за все пережитые ужасы». (С. 240).
Так что исторический сценарий у Ципко вырисовывается примерно такой. Однажды некоему Карлу Генриху Марксу из Трира взбрело в голову, что исторический прогресс осуществляется с помощью политических и социальных революций. «Социалистические революции, — растолковывает нам далее Ципко, — в том виде, как они были задуманы в последних работах Карла Маркса и, в частности, в его «Гражданской войне во Франции», не говоря о «Манифесте», обращены быть восстанием люмпенизированного меньшинства против большинства третьего сословия, одновременно против крестьянства, самое главное, против производственной основы общества, гражданского общества». (С. 277).
Чувствуете тон: социалистические революции «были задуманы» Марксом. Ципко уже судит о Марксе в соответствии с собственной методой: всё выдумывает из головы. Вот и Маркс всё выдумал. Но вы хоть раз в жизни открывали «Гражданскую войну во Франции»? Давайте откроем вместе и посмотрим, о чём там речь?
Речь в этой работе идёт, как это видно из названия, о гражданской войне во Франции, о войне между Парижской Коммуной и Версалем
в 1871 году. Маркс ничего здесь не выдумывает, а просто описывает и анализирует известные события. Что же касается «люмпенизированного меньшинства», которое, как утверждает Ципко, должно было восстать против третьего сословия и крестьянства, то давайте посмотрим, что пишет об этом сам Маркс. «...Это была первая революция, — пишет Маркс, — в которой рабочий класс был открыто признан единственным классом, способным к общественной инициативе; это признали даже широкие слои парижского среднего класса — мелкие торговцы, ремесленники, купцы, все, за исключением богачей-капиталистов. Коммуна спасла их, мудро разрешая вопрос, бывший всегда причиной раздора
в самом среднем классе, — вопрос о расчётах между должниками и кредиторами. Эта часть среднего класса участвовала в 1848 г. в подавлении июньского восстания рабочих, и сейчас же за тем Учредительное собрание бесцеремонно отдало её в жертву её кредиторам. Но она примкнула теперь к рабочим не только поэтому. Она чувствовала, что ей приходится выбирать между коммуной и империей, под какой бы вывеской та вновь ни появилась. Империя разорила эту часть среднего класса экономически своим расхищением общественного богатства, покровительством крупной биржевой спекуляции, своим содействием искусственно ускоренной централизации капитала и вызываемой ею экспроприации указанной части среднего класса». (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 17. С. 347—348).
Отношение Коммуны к крестьянству? «Коммуна, — пишет Маркс, — имела полное право объявить крестьянам, что „её победа — их единственная надежда!”». (Там же. С. 348). Ни о каком восстании против третьего сословия и крестьянства и речи нет. И даже наоборот. Ципко опять всё выдумал. И при этом валит с больной головы на здоровую. Зачем же так неаккуратно, почтеннейший? Совесть надо иметь.
И вообще в «Гражданской войне во Франции» у Маркса очень мало анализа движущих сил социальной, как тогда было принято говорить, революции. О люмпене, среднем классе, крестьянстве и других слоях французского общества, об их участии в революции у Маркса идёт речь не в «Гражданской войне во Франции», а в работе «Классовая борьба
во Франции». (Ципко как всегда что-нибудь путает, то термидор с брюмером, 1925 г. с 1922-м, то Маркса с Энгельсом, то вот теперь разные работы Маркса, между которыми хронологическая разница в 20 лет). Но и здесь речь идёт не о восстании «люмпенизированного пролетариата» против среднего класса и крестьянства, а об использовании буржуазией люмпена против пролетариата, против рабочих. После победы февральской революции 1848 года французская буржуазия, как пишет Маркс, «не чувствовала себя достаточно крепкой для того, чтобы справиться с пролетариатом. К тому же она была вынуждена, хотя и после упорного сопротивления, после сотни всяческих помех, мало-помалу, частично, открыть доступ в свои ряды вооружённым пролетариям». (Там же. Т. 7. С. 23).
Речь идёт о Национальной гвардии, которая была практически единственной вооружённой силой в Париже. «Таким образом, — пишет Маркс, — оставался только один исход: противопоставить одну часть пролетариев другой». (Там же). Но это по своей классовой сути очень разные части, в чём не разобрались многие очевидцы и современники июньских событий в Париже. Как же Маркс характеризует тот слой городских подонков, из которых была набрана мобильная гвардия, направленная потом против рабочих? Это место из работы Маркса стоит привести целиком, чтобы не было недоразумений. Тем более, что всё это актуально и сейчас.
«С этой целью, — пишет Маркс, имя в виду цель буржуазии направить одну часть пролетариев против другой, — временное правительство образовало 24 батальона мобильной гвардии из молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет, по тысяче в каждом батальоне. Они принадлежали большей частью к люмпен-пролетариату, который имеется
во всех больших городах и резко отличается от промышленного пролетариата. Этот слой, из которого рекрутируются воры и преступники всякого рода, состоит из элементов, живущих отбросами с общественного стола, людей без определённых занятий, бродяг — gens sans feu et sans aveu; они различаются в зависимости от культурного уровня нации, к которой принадлежат, но везде и всегда они сохраняют характерные черты лаццарони. Крайне неустойчивые в том юношеском возрасте, в котором их вербовало временное правительство, они способны были на величайшее геройство и самопожертвование, но вместе с тем и на самые низкие разбойничьи поступки и на самую грязную продажность. Временное правительство платило им 1 франк 50 сантимов
в день, т. е. купило их. Оно одело их в особый мундир, т. е. внешним видом обособило их от блузников. В командиры им частью дали офицеров регулярного войска, частью они сами выбрали молодых буржуазных сынков, которые пленили их громкими словами о смерти за отечество и о преданности республике». (Там же).
Кстати об актуальности. Если посмотреть на нашу нынешнюю ситуацию, то социальную базу нашего оголтелого антикоммунизма составляют те же самые «лаццарони» с Рижского рынка. Ципко это, видимо, нисколько на смущает, и он не считает эту публику для себя не совсем подходящей компанией. Но заметьте, как репортёрски точен Маркс, как верен он фактам. И Ципко, который делает все свои выводы на основании одного только своего «внутреннего голоса». Он клевещет
на Маркса и при этом, понятно, избегает точных ссылок, запутывая и сбивая с толку читателя. Ведь если бы Ципко отослал его к «Классовой борьбе во Франции», то он мог бы узнать также, что пьяная мобиль, как назвал её А.И.Герцен, оказавшийся очевидцем июньского поражения рабочих, умертвила 3 000 пленных. Читателю полезно это знать, когда Ципко пугает его ужасами красного террора. Слава богу, история, после вероломства буржуазии в 1848, 1871 и в 1905 годах, кое-чему научила русских рабочих, и они в 1918 не стали дожидаться, когда их спокойненько перережут те же «мобили». Ведь не для германского фронта создавались подобные батальоны временным правительством.
Так что, революции не «задуманы» Марксом. А они просто происходили. И Маркс просто пытается понять их суть, их движущие силы,
их возможные перспективы. Единственное, чему верен здесь Маркс
до конца, это своему материалистическому методу. А согласно этому методу, революции происходят не по чьему-то замыслу, не по какому-то заранее, принятому сценарию, а по своим объективным причинам, которые коренятся, в конечном счёте, в экономике общества, куда Ципко даже не пытается заглянуть, двигаясь целиком и полностью в чисто идеологической плоскости.
Причём, что интересно, Маркс не говорит не о «революциях», а о Революции, о некоем едином революционном процессе, отдельные моменты которого, как прослеживает он их в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта», следуют с определённой регулярностью. Это, подчёркивает Маркс, непрерывный процесс, непрерывная, перманентная, как назовут её Ленин и Троцкий, революция. То есть Маркс рассматривает так называемую социальную революцию, то, что впоследствии стали называть социалистической революцией, всего лишь как один
из этапов единого революционного процесса.
Это единство, по Марксу, проявляется в том, что два основных класса буржуазного общества, буржуазия и пролетариат, настолько повязаны между собой, что буржуазия не может до конца освободиться
от «старого режима», не давая определённой политической свободы пролетариату, и в то же время она не может обеспечить себе прочное господство по отношению к пролетариату, не заключая союз со старыми реакционными силами. А потому при наличии развитого рабочего класса буржуазия становится неспособной выступать революционно по отношению к феодализму, что в особенности ярко проявилось в России в конце XIX — начале XX столетий. И потому, как это ни странно,
за неё антифеодальные задачи должен был решать рабочий класс. Последний становится поэтому, как заметит уже потом Ленин, гегемоном в буржуазно-демократической революции.
И никаких «аналогий» Маркс здесь не допускал. Поэтому Ципко опять-таки по неведению, или по злому умыслу (впрочем, никогда
не разберешь, где кончается одно и начинается другое), сочиняет очередную сказочку про Маркса, что тот «абсолютизирует, превращает
в универсальное то, что, по сути, было уникальным, то есть переход
от позднего феодализма к буржуазной демократии с помощью политической революции». (С. 72). Вот уж полное непонимание ни текстов,
ни метода Маркса. Вместо метода диалектики Ципко приписывает ему метод аналогий: «Маркс до конца своей жизни так и не увидел, что метод аналогий здесь, в принципе, мало что даёт, ибо, к примеру, с содержательной точки зрения переход от позднего феодализма к буржуазному обществу не имеет ничего общего с возможным переходом от монополистического государственного капитализма к социализму». Это
по каким же книжкам, интересно, изучал метод Маркса Ципко? Похоже, что для него всё-таки не прошло даром, что он, не окончив до конца курса наук, задрав штаны побежал за комсомолом. Маркс, в полном соответствии со своим диалектическим методом, анализирует политическую революцию как переход от феодализма к буржуазной демократии целиком и полностью в его особенности. Именно верность диалектическому принципу особенности, в соответствии с которым надо рассматривать особенную логику особенного предмета, удержала Маркса
от того, чтобы диктовать русским революционерам какие-то революционные схематизмы. Поэтому непонятно, про какие «законы марксизма» по которым должна вестись гражданская война, пишет Ципко. (С. 148). И почему, непонятно, русский народ обязан жить «по схемам Карла Маркса»? (С. 183). Кто придумал эти «схемы»? И кто так считал, непонятно.
А Ципко всерьёз ставит вопрос, можно ли жить «по Марксу». (См.: С. 257). Жить вообще нельзя ни по Марксу, ни по Достоевскому, ни даже по заветам Иисуса Христа, и вообще ни по какой теории. Теория может только более или менее правильно объяснять нам нашу жизнь. Но жизнь первее всякой теории. Она течёт себе и течёт. И для большинства населения планеты, и даже нашей страны, для самого политизированного на сегодняшний момент общества, смена власти у нас, смена лозунгов, политических доктрин и политических лидеров — это всё что-то потустороннее, что человек видит в телевизоре, о чём пишут газеты и говорят заезжие лекторы и всякого рода пропагандисты. Любая попытка выстроить свою жизнь целиком и полностью по какой-то науке, по какому-то учению выглядит всегда нелепо и смешно для обычного человека, захваченного суматохой жизни.
И Ципко сам это признаёт, не преминув, однако, сказать гадость опять-таки про человека: «Никаких проблем с Марксом у нас нет. Миллионы и миллионы людей в своих повседневных отношениях руководствовались не Марксом, а принципом выживания, приспособления и примирения с абсурдом». (С. 260).
Даже ... Сталин для большинства нашей страны был всего лишь портретом на стене где-нибудь в клубе или в колхозной конторе. Всего лишь символом, в котором для большинства народа воплотилась мощь и слава Государства, а отнюдь не марксизм и коммунизм. И только интеллигенция, партийцы, управленцы всех уровней, в особенности высших, ощущали его реальное присутствие. Но, как говорится, назвался груздем, потом не плачь...
Конечно, человек «может только то, что он может». (Это напоминает мне сентенцию одной интеллигентной дамы, во вкусе Ципко, которая говаривала: чтобы все органы хорошо работали, надо чтобы они всё время работали). Исследовать все факты жизни он не может, их бесконечно много. Но провести единый методологический принцип он может. И ничто не обязывает человека перескакивать с пятого на десятое, как это делает Ципко. Единство науки заключается исключительно
в методе. И такое единство у Маркса, вопреки всем потугам (напрягам) Ципко доказать обратное, имеется. Это единство марксистской науки обеспечивается материалистической диалектикой, о которой так неуважительно отзывается Ципко, который изучал её не по Марксу и
не по Гегелю, а, судя по всему, по книжкам Нарского и Шептулина. «Вспомните о вашей хвалёной диалектике, — напрягается» Ципко, — которую вы учили по Марксу, или по Гегелю. Ведь она всегда являлась не только оружием критики, но и способом смирения гордыни. Она ещё учит искать в действительности, в том, что есть разумное, беречь его. Она, диалектика, освобождает от иллюзии лёгких решений, напоминает, что мир, бытие человека изначально трагичны, что преодолеть изначальную противоположность зла и дабра невозможно. Вы очень хотите справедливого, её все хотят». (С. 182).
Да, как говорил Копенкин, «все хотят любить Розу». Но, простите,
тут вам сразу несколько вопросиков. Во-первых, если не по Марксу и
не по Гегелю, то по кому надо учить диалектику? Уж не по Федосееву ли и не учебнику ли под редакцией И.Т.Фролова? Ответьте, великий знаток диалектики. Во-вторых, если вы считаете, что разумное надо беречь, то неужели в диалектике Маркса и Гегеля нет ничего разумного и разве это не достойно того, чтобы его поберечь? В-третьих, какая это такая диалектика учит, что преодолеть изначальную противоположность зла и добра невозможно? Это не «наша» хвалёная диалектика, а так называемая трагическая диалектика Сёрена Кьеркегора. И практически этой диалектике следовать невозможно, как практически, в общем, невозможно следовать христианскому учению об изначальной греховности человека. Надо забросить все дела и только молиться о спасении души. Но вот Ципко клеймит марксизм как «зло». И так «напрягается», что явно надеется побороть его.
Но на что он надеется, если зло в мире неистребимо, и мир никогда не наступит на земле?
Всё-таки диалектика, не только по Гегелю и по Марксу, но и по Платону, это наука не о неразрешимых «антиномиях», в том числе, и главным образом, нравственных, а о единстве противоположностей,
об их переходе друг в друга. Вот этого-то у Ципко не получается. У него никак не соединяются противоположности, а если это и происходит, то вопреки его воле, и у него получается то одно, то другое, прямо противоположное. То он упрекает марксистов в волюнтаризме, что они «нарушили» «естественный» ход истории, то в фатализме, в том, что марксисты верили в непреложные законы истории. Но это уже не «наша» диалектика, а «ваша» диалектика. И Маркс тут ни при чём. А Ципко валит опять с больной головы на здоровую. Вы только послушайте этого знатока диалектики.
«Складывается впечатление, — пишет «духовно развитый» Ципко, — что основатели социализма, который мы по традиции называем научным, никогда всерьёз не задумывались над их самоочевидными проблемами. Даже мощный диалектический ум Маркса, работающий как мотор, когда речь шла о противоречиях, антагонизмах ненавистной ему частнособственнической цивилизации (чего стоит только его блестящий анализ товарного фетишизма в „Капитале”!), слабеет, когда судит о будущем ассоциированном обществе». (С. 88).
Если бы Ципко толком изучил «нашу» диалектику, то он должен был бы знать, вернее — понимать, что анализ настоящего, настоящий анализ, не может не давать каких-то прогнозов на будущее: зачем тогда вообще анализ настоящего. Но даже самый исчерпывающий анализ настоящего не может нам полностью открыть будущего. Для социальной реальности это не смог бы сделать даже «демон» Лапласа. И это вытекает опять-таки из диалектики и всего опыта науки... Поэтому Маркс никогда не считал себя кудесником — любимцем богов и, в частности, предупреждал русских революционеров, что для судеб русской крестьянской общины и её роли в будущей русской революции из его «Капитала» тут ничего не следует. Всё зависит от массы обстоятельств, которые сможет учесть только будущий историк.
Что касается «блестящего анализа товарного фетишизма» в «Капитале», то это со стороны Ципко всего лишь обманывающая подачка, которые он иногда делает. Но делает только для того, чтобы не прослыть некультурным, «духовно неразвитым» человеком. В наше время отрицать полностью Маркса немодно, немодно и невыгодно. По сути же это обман, потому что анализ товарного фетишизма у Маркса, это только средоточие и только часть всего его блестящего, действительно, анализа всего фетишистского буржуазного «гражданского», общества.
Это критический анализ, который лежит в том широком русле критики мещанского общества, куда относится и Бальзак, и Рихард Вагнер, и Толстой, и, кстати, «ваш» любимый Достоевский, и Горький, и вся прогрессивная общественная мысль XIX—XX столетий. И если вы признаёте, что этот анализ «блестящий», то вы не можете не признать, что это общество фетишистское насквозь и что только ликвидация вещных отношений может сделать человеческие отношения действительно человеческими, «прозрачными», как их характеризует Маркс.
Ведь если Маркс даёт «блестящий» анализ товарного фетишизма,
то это может означать только то, что он верно выразил нечто объективное. Так как же после такого признания можно возражать Марксу и утверждать, что «опосредованная», так называемая «вещая связь» между людьми куда больше оставляет человеку свободы, гарантии социальной защищённости, чем так называемая «прозрачная», «непосредственно-коммунистическая». (С. 89). Значит, вы или не поняли суть этого «блестящего» анализа, или откровенно лицемерите, называя его «блестящим», но таковым не считая. Это всё работа на публику: вот какие, мол, мы широкие и «духовно развитые», мы можем и правоту Маркса признать, хотя он и недоумок, который стучит кулаком по крышке стиральной машины, хочет «помочь движению истории». (С. 223). И в то же время Ципко считает, что «нельзя стать квалифицированным социологом, политологом, вообще культурным человеком, не будучи знакомым с идеями Маркса». (С. 262).
Так вот Ципко обнаруживает весьма слабое знакомство с основными идеями Маркса, хотя простое знакомство с какими-то идеями, этакое всезнайство, ещё не делает человека действительно культурным, тем более — духовно развитым. Ведь материалистическое понимание истории — это основная идея Маркса. Это одно из двух открытий, которые, как отмечал Энгельс, сделаны Марксом: материалистическое понимание истории и тайна прибавочной стоимости. Чтобы знать врага, надо идти в стан врага. Ципко не хочет ходить. Но хочет обо всём судить, в том числе о марксовом понимании истории, рассказывая байки про стиральную машину и о том, что Маркс «нарушает» некоторый «естественный» ход истории. Что такое «естественный» ход истории, хотя этой абстракцией оперирует не только не только Ципко, а весьма многие, никто ещё до сих пор толком не ответил. Да и ответить на этот вопрос невозможно, поскольку это всего лишь абстракция и некоторый фетиш, вроде тех же разлюбезных «общечеловеческих ценностей».
Различия между естественным и искусственным у человека весьма относительно. Что естественно для человека, есть при помощи ножа и вилки, этих искусственных орудий, или при помощи пальцев? И если бы вдруг Ципко в гостях у своих друзей начал всё хватать руками, то хозяева, я думаю, не сочли бы это «естественным». Человек тем и отличается от животного, что он живёт не просто природой, а в значительной мере «искусством». «Искусство» человека состоит в том числе и в том, что он всё время ускоряет естественный, то есть природный ход событий. Например, бройлерный цыплёнок набирает нужный вес значительно быстрее, чем цыплёнок в процессе естественного развития. Так если следовать рутинёру Ципко, то не только Азии и Африке, но и всем народам мира надо было бы сейчас ходить голодными и ждать, когда мясо вырастет «естественным» образом. В развитых странах продовольственная проблема решена не «естественно», а счёт применения многообразного «искусства».
Ускоряя рост животных и растений, производство других необходимых предметов, человек ускоряет своё собственное развитие, вплоть до того, что он начинает планировать своё собственное развитие, проектировать всю социальную сферу... А Ципко в конце XX века ратует
за стихийность. И, вместе с тем, третирует Маркса как троечника: «Маркс не сводит концы с концами не только в частностях, но и главном — в понимании истории и механизмов её развития. Материалистическое и идеалистические истоки его учения так и не смогли соединиться в нечто целостное». (С. 81). А как же тогда , непонятно, «блестящий анализ» товарного фетишизма? Ведь Маркс в этом анализе как раз и показал, что товар, будучи обыкновенной материальной вещью, несёт
на себе определённые идеальные значения, не связанные непосредственно с материальной природой данной вещи, а с природой тех материальных отношений, в которые люди вступают по поводу данной вещи. Маркс в истории человеческой мысли как раз тем и замечателен, что он конкретно показал связь материального и идеального, А, тем самым, в определённом смысле снял извечную противоположность идеального и материального, идеализма и материализма. Читай об этом блестящую работу Э.В.Ильенкова об идеальном. Это тоже надо знать «культурному» человеку.
«Всё, что я буду говорить дальше, уже банально». (С. 258). Так говорит Ципко... и говорит дальше. Хотя и до этого он мало что сказал оригинального, всё это перепевы уже известного и порядком надоевшего. Но я, чтобы не быть банальным, говорить дальше не буду, а поставлю на этом точку. Ципко пожелаю, чтоб его идеал осуществился, наконец. То есть, чтобы он отправился куда-нибудь в пустынь и всю оставшуюся жизнь замаливал свои грехи, среди которых самый главный грех — грех лжи.
Источник: Изм. 1992. № 1. С. 25—35.
Версия для печати